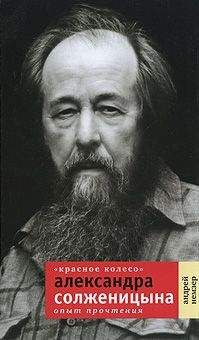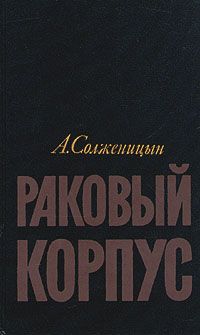Ознакомительная версия.
И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.
Звезды существовали до появления человека и его грехопадения. Звезды останутся и после того, как пройдет земное время. Сама Земля (и уж тем более – человечество) видится сейчас Смысловскому «блудным сыном царственного светила».
…Придёт час – наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет… Если б это непрерывно все помнили – что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..
Упомянув Сербию, Смысловский имеет в виду причину вступления России в войну летом 1914 года, что вызывает несогласие у его собеседника («Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить». – 21). Однако имя балканской страны (а затем и весь спор Смысловского и Нечволодова, большей частью – ведущийся не вслух: «Но как вся война, действительно, ничтожнела перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер») вызывает ассоциации с другим – более ранним и безусловно известным как героям Солженицына, так и его читателям – мировоззренческим столкновением: толстовская скептическая оценка участия русских добровольцев в войне на Балканах (защите Сербии) выражена в восьмой части «Анны Карениной» (где позиция Левина максимально сближена с авторской), возражения на Достоевского представлены в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год.[18]
Существенно и то, что «космогонические» размышления Смысловского в известной мере захватывают его оппонента (не случайно сквозь естественно-научные рассуждения полковника проступает евангельская притча о блудном сыне), и то, что ни взгляд на земные дела с космической точки зрения, ни несогласие с политической позицией Нечволодова («Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее – и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтёшь») не мешают Смысловскому оставаться патриотом («как раз отечество он очень понимал») и безукоризненно воюющим офицером. Непримиримые доктрины двух великих писателей здесь обнаруживают не только свои изъяны, но и ту глубинную правду, одна часть которой явлена Толстым, а другая – Достоевским. Характерно, что это преодоление непреодолимого противоречия ясно скорее читателю, чем героям. Впрочем, и они легко обходятся без тех резкостей, которые непременно бы окрасили (и измельчили) спор, происходи он в другой обстановке. Но Смысловский с Нечволодовым беседуют «под звёздами» (так именуется фрагмент 21-й главы в «Содержании»), при восстановленной вертикали, – и потому здесь утишается собственно идеологическое противостояние, и намечается (для читателя) важная смысловая перспектива, которая вполне раскроется в монологе вышедшего из окружения Воротынцева.
Смысловая связь диалога Смысловского с Нечволодовым и «успения» Самсонова поддерживается мотивами абсолютной тишины и звёзд. Многочисленных – над станцией Ротфлис, «одной единственной звёздочки», на которую, «не зная востока» молится Самсонов. (В лермонтовских стихах о блаженном успокоении звёзды могут заменять горы; всем памятный пример: «Выхожу один я на дорогу…»). Перекличку между «самсоновским» и «кабановским» эпизодами обеспечивает не только мотив смерти, но и преображение Грюнфлисского леса, в большинстве посвященных ему фрагментов – отчетливо «немецкого», враждебного русским воинам, зловещего. Как помним, приючая Самсонова, лес стал ничьим, Божьим. Так происходит и в сцене похорон Кабанова.
Приняв неизбежное решение (с мертвым телом на прорыв идти немыслимо), Воротынцев объясняет дорогобужцам: «…немцы – не нехристи». Речь идет о чем-то большем, чем конфессиональная принадлежность неприятеля. Перед лицом вечности (прощание с ушедшим в небытие) война словно бы исчезает:
Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колёсным следом (обратим внимание на эту деталь, отсылающую к заглавному символу «повествованья в отмеренных сроках». – А. Н.), ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро (как в зачине Узла. – А. Н.), сильнел смоляной разогрев, приглушённо перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное, вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят – и по домам разойдутся.
(50)
Уходят и привычные социальные различия (дорогобужцы не знают, как звали их командира, «солдатам – “ваше высокоблагородие” сунуто») – отпевает Кабанова мирянин Благодарёв.
Наконец, обе сцены «лесных уходов» напоминают о том лесе, который в мирную пору открылся юному Сане Лаженицыну:
…В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбираться, – а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!
(2)
Хотя Саня ошибся (яснополянский парк начинается лишь за большаком), связь Толстого, каким его пишет Солженицын, и его возвышающегося над суетой социальной реальности (людскими злобой и недомыслием) учения о любви с прекрасным и безлюдным, словно бы первозданным, лесом сомнению не подлежит. Отсюда приглушенные, но ощутимые «толстовские» обертоны в грюнфлисских эпизодах, особенно – в утреннем, «кабановском».
Расхождения Солженицына с Толстым в специальных комментариях не нуждаются (обнаруживаются они уже в «Августе Четырнадцатого», а последовательно и систематично представлены в рассуждениях о. Северьяна во Втором Узле – О-16: 5, 6), но и присутствие толстовских (и лермонтовских, предсказывающих Толстого) мотивов в Первом Узле никак нельзя счесть случайным. Солженицын не только опровергает мифологию Толстого (как, впрочем, и Достоевского), но и свидетельствует (самим повествованием своим) о глубинной правде Толстого, без которой невозможен разговор о «войне и мире» и назначении человека. Однако сближения с Толстым (с отсылками к «предтолстовским», но не столь, как у Толстого, идеологически жестким текстам Лермонтова) вовсе не предполагают подчинения его «частичной» правде. Характерно, что в главе о прощании с Москвой (где говорится о разочаровании Сани в толстовском учении) Варсонофьев, которого юные персонажи прозвали «звездочётом» (вспомним, что откровение «под звездами» переживает сперва Смысловский, а потом и Воротынцев) произносит то самое слово, стоящая за которым символическая реалия доминировала в начальных абзацах повествования, означала вертикаль, с удалением от которой рушится изначальный божественный строй мира:
Когда трубит труба – мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы – для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет (курсив мой. – А. Н.). И для этого молодые люди должны идти на войну.
(42)
Здесь, не упуская из виду проанализированной сложной системы «горных», «звездных», «лесных» символических мотивов, резонно вернуться к сопоставлению двух героев-воинов, по-разному, но угадавших трагический смысл августовских событий. Самсонов досягнул своего предела. Воротынцеву суждено держаться дольше. И, помня о том, почему и как умер Самсонов, не имея права высокомерно признать постигшее его откровение – заблуждением и наваждением, а уход – непростительным грехом, мы – при глубоком сочувствии к Воротынцеву и другим героям-деятелям – принуждены постоянно задумываться: а есть ли в их поступках реальный смысл? а не заведомо ли обречены энергичные борцы на поражение? а не ждет ли каждого из них участь Самсонова?
Нет, не каждого. Но кого-то – ждет. В этом плане огромную смысловую нагрузку несет появление в «Августе Четырнадцатого» полковника Крымова (16, 28), который, на первый взгляд, может показаться персонажем излишним, так сказать, дублером Воротынцева. Не случайно, однако, уделив Крымову совсем немного места, автор указывает на его личную близость Самсонову и их взаимную приязнь. Крымов присутствует в «Августе Четырнадцатого» не только потому, что он сражался в Восточной Пруссии, но и с учетом будущего этого человека, что несомненно был бы подробно обрисован на страницах солженицынского повествования, доведи его автор до августа 1917 года. Тогда генерал-майор А. М. Крымов стал наиболее решительным участником действий Корнилова по спасению России от большевиков. Он был обвинен Керенским в измене и передан под следствие. «Отправив Корнилову предсмертное письмо с офицером (Россия погибла, и не стоит больше жить!), Крымов застреливается в канцелярии военного министра» («На обрыве повествования», Узел VI – «Август Семнадцатого»). В пространстве эпопеи Солженицына самоубийство Крымова – повторение самсоновского. Читатель подготовлен к нему впечатлением Воротынцева от встречи с Крымовым осенью 1916 года: «не убит, но – истратился Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ноги не тягают» (О-16: 42).[19]
Ознакомительная версия.