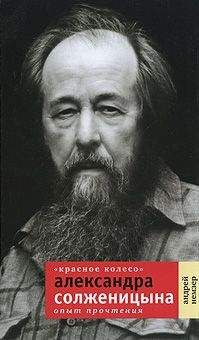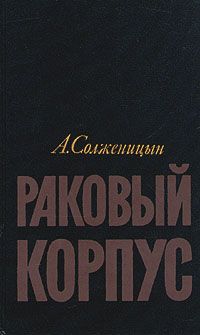Ознакомительная версия.
Но если есть такой барьер, если рано или поздно всякому борцу станет ясно, что усилия его тщетны, то зачем тогда совершать какие-либо резкие действия? Видим же их тщету: наблюдая хоть за Воротынцевым в «Августе Четырнадцатого», хоть за полковником Кутеповым, когда он 27 февраля 1917 года пытается (толково, энергично, умно) придавить в зачатке петроградское возмущение, ставшее революцией (М-17: 76, 79, 88, 108, 116), хоть за Корниловым и Крымовым в августе того же проклятого года. Есть ведь резоны у Свечина, когда он корит Воротынцева за его поездку во Вторую армию и уговаривает друга держать при себе выстраданную правду: «Безсмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять» (81). Предположим, Воротынцеву разумнее было не ездить во Вторую армию вовсе, а готовить в Ставке грамотные приказы (прав Свечин – вдвоем бы больше пользы принесли); если уж приехал – ни на шаг не отходить от Самсонова, советовать, благо, «новую войну» глубже понимает, подбадривать, давить авторитетом человека, причастного верхам, на непутевое окружение командующего; если уж вернулся – не бесить начальство, упрочить карьеру (можно было, можно!) и как-то да влиять на великого князя (во вменяемость которого, впрочем, и Свечин не верит). Ну а что было делать Кутепову в феврале, а Крымову в августе 1917-го? Кому и что советовать? Сдержанность и лояльность Свечина сделают для него невозможным участие в заговоре Гучкова (к чему склоняется Воротынцев – О-16: 42), но не они ли позже превратят генерала в «спеца» при большевиках, в итоге ими расстрелянного? (Изменив имя этого не слишком известного исторического лица, Солженицын счел нужным сообщить о его судьбе в «Авторских замечаниях к Узлу второму».) Мы не смеем осуждать уходящего в небытие Самсонова. Но точно так же не смеем упрекать тех, кто, терпя поражение за поражением, продолжал борьбу.
Во всяком случае, пока мы говорим о социально-политической истории. Но у истории, по Солженицыну, есть и иное – мистическое – измерение. Когда Самсонову мнится, что Господь оставил Россию, можно (и хочется) счесть, что уставший генерал впадает в соблазн. Но в соблазне этом страшно преломляется высшая правда. Вот что сказано Солженицыным в «Темплтоновской лекции» (1983; два Узла «Красного Колеса» уже написаны, в разгаре работа над «Мартом Семнадцатого»):
Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: «Люди забыли Бога, оттого и всё» <…> Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту в с е г о ХХ века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди – забыли – Бога». Пороками человеческого сознания, лишённого божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них – Первая мировая война, многое наше сегодняшнее – из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше чем на одно столетие, а может быть – навсегда, – ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей силы над собой».[20]
Забыли Бога те, кто позволили России сорваться в войну. Что случилось, конечно, не в одночасье лета 1914 года. Ответственность за вступление России в войну несет власть – «помрачение разума правящих» детально описано Солженицыным в специально выделенном разделе («Июль 1914») главы, посвященной императору Николаю II (74). Государь не способен оценить масштаб и перспективы вершащихся событий, которым по-человечески он вовсе не рад. (Солженицын настойчиво подчеркивает миролюбие императора, прямо связанное с его простодушным идеализмом.) Роковое решение царя стимулировано частью благородными, но расплывчатыми общими соображениями о славянском братстве и нравственной необходимости защищать слабых, частью – опрометчивыми союзническими обязательствами (рабствование которым удобно трактовать в высоком плане – как рыцарскую верность слову), частью – привычкой мыслить политику делом семейным. Родственная приязнь к императору Вильгельму, полное к нему доверие, завороженность его личностью и многолетними «братскими» отношениями превращаются в едва ли не детскую обиду, желание отомстить и «доказать» свою силу и самостоятельность. Далеко не в первый (ср. проведенный Солженицыным в той же главе подробный анализ действий Государя в 1905 году) и, увы, не в последний раз (об этом «Октябрь Шестнадцатого» и особенно «Март Семнадцатого») Николай II оказывается слабым и близоруким политиком, оставаясь при этом добрым, трогательным и вызывающим (наряду с недоумением и раздражением) сочувствие человеком. Государя жалко не только потерпевшему страшное поражение и внутренне готовящемуся оставить сей мир Самсонову, но и читателю. Покуда не вспоминаешь, что именно царь должен был уберечь Россию от «красного колеса».
Это хорошо понимает (хотя и не договаривает до конца) кормящий Россию Захар Томчак, который войну против Германии считает «бисовой дуростью»:
…Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки.
(9)
Старый крестьянин, ставший богатым хозяином, но не переставший быть истовым работником, не только человечнее, но государственно мудрее и богобоязненнее «трёх императоров».[21] Бытовой, приправленный самоиронией тон вовсе не дискредитирует суждение Томчака. Только не нашлось человека, который сумел бы приобщить русского царя (а зависит-то все от него, потому он и его царственные собратья-враги Томчаку припомнились!) к правде крепкого русского мужика. Уже здесь Солженицын готовит читателя к принципиально важным для всего «Красного Колеса» «столыпинским» главам. Как энергичное хозяйствование Томчака (заслуженно принесшее ему богатство) практически воплощает социально-экономические идеи Столыпина, доказывает их правоту и в какой-то мере предстает их следствием, так его мысли о войне и мире невольно отражают внешнеполитическую доктрину министра-реформатора:
…только избегать международных осложнений, вот и вся политика. России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10–20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ – не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны.
(65')
Ровно об этом говорит Воротынцев Свечину:
…мы всю жизнь учимся как будто только воевать, а на самом деле не просто же воевать, а как верней послужить России? Приходит война – мы принимаем её как жребий, только б знания применить, кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну подумай, ведь последняя неизбежная и всем понятная война была – Крымская. А с тех пор…
(81)
Свечину эти мысли Воротынцева, его противопоставление службы «войной» и службы «одной силой стоящей армии» кажутся доходящими «до бессвязности». Это точно соответствует его несогласию с порывом Воротынцева высказать всю правду; квалифицированный, умный и честный военный, Свечин не желает выходить за положенные ему пределы – он знает и хочет знать только свой шесток. И потому не может понять, с чего это Воротынцев «вспомнил Столыпина».
Между тем ход мысли Воротынцева строго логичен. Мысль о Столыпине вместе с вопросом «а почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а… вообще на этой войне?..» настигли полковника, когда он «ходил на полянке часовым, под звёздами» (81). То, что открылось здесь герою, должно быть истолковано на трех уровнях. Высший – война вообще есть «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (зачин третьего тома «Войны и мира»[22]). Воротынцев чувствует эту высшую правду примерно так же, как лежащий на поле Аустерлица князь Андрей или герой лермонтовского стихотворения «Я к вам пишу случайно, – право…». Упоминание «звёзд» отсылает читателя к рассмотренным выше эпизодам ухода Самсонова – он молился на «единственную звёздочку» в том же Грюнфлисском лесу, где бодрствует Воротынцев (48) – и диалога Смысловского с Нечволодовым (21).
Следующий уровень – общеполитический. Сегодняшней России (не решившей множества экономических и социальных задач, не изжившей до конца язву революции, не сумевшей достигнуть общественного согласия и правильно выстроить отношения власти, народа и образованного сословия) война не нужна и опасна, и тем более губительно для нее стремительное вступление в войну.
Наконец уровень третий – собственно военный. Русская армия воюет плохо – не только из-за того, что план кампании составлен бездарно, а среди генералов немало трусов и карьеристов, но и потому, что к новой войне она вообще не готова (явно недостаточно вооружена, экипирована, обучена).
Ознакомительная версия.