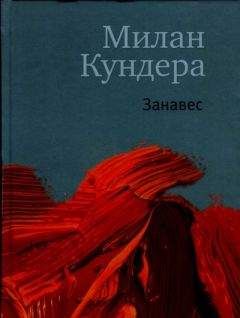Три романа Франца Кафки суть три варианта одной ситуации: человек вступает в конфликт не с другим человеком, а с миром, который превратился в гигантскую бюрократическую машину. В первом романе (написанном в 1912 году) человека зовут Карл Россманн, а мир — это Америка. Во втором (1917) — человека зовут Йозеф К, а мир — трибунал, который его обвиняет. В третьем (1922) — человека зовут К, а мир — это деревня с нависающим над ней замком.
Если Кафка отходит от психологии, чтобы сосредоточиться на исследовании определенной ситуации, это не означает, будто его персонажи не являются психологически убедительными, просто психологическая проблематика отходит на второй план: было детство К счастливым или несчастным, обожала ли его мама, или он воспитывался в сиротском приюте, пережил ли он большую любовь или нет, это не изменит ничего ни в его судьбе, ни в поведении. Именно этим ниспровержением психологической проблематики, другим подходом к человеческой жизни, другим способом постичь личность человека Кафка отличается не только от предыдущей литературы, но также от своих великих современников Пруста и Джойса.
«Гносеологический роман вместо романа психологического», — писал Брох в одном из писем, где он объясняет поэтику «Сомнамбул» (написанных между 1929 и 1932 годами); действие каждого романа этой трилогии, «1888 — Пазенов, или Романтизм», «1903 — Эш, или Анархия», «1918 — Хюгенау, или Реализм» (даты являются частью заголовков), происходит пятнадцать лет спустя после предыдущего, и мы имеем дело с другой средой, с другим главным героем. Если что и делает из этих трех романов (их никогда не издают по отдельности!) единое произведение, так это та же ситуация, сверхиндивидуальная ситуация в рамках исторического процесса, названная Брохом «деградацией ценностей», столкнувшись с которой каждый из главных героев находит собственную линию поведения: прежде всего Пазенов, верный ценностям, которые вот-вот исчезнут на его глазах; позже Эш, одержимый потребностью иметь ценности, но не умеющий их распознать; и наконец, Хюгенау, прекрасным образом приспособившийся к миру, лишенному ценностей.
Мне несколько затруднительно причислить Ярослава Гашека к числу тех романистов, которых в моей «личной истории романа» я считаю основателями модернизма в романе, поскольку самого Гашека нисколько не беспокоило, можно ли его причислить к модернистам или нет; это был популярный писатель в том значении слова, которое уже вышло из употребления, писатель-скиталец, писатель-авантюрист, презирающий литературную среду и презираемый ею, автор единственного романа, который сразу же обрел очень широкую популярность во всем мире. Мне же представляется куда более значительным то, что его «Бравый солдат Швейк» (написанный между 1920 и 1923 годами) отражает ту же эстетическую тенденцию, что и романы Кафки (оба писателя жили в одни и те же годы в одно*м и том же городе) или Броха.
«На Белград!» — кричит Швейк, вызванный на призывную комиссию, Он прокладывает себе дорогу в кресле-каталке по улицам Праги и воинственно размахивает фальшивыми костылями под восхищенными взглядами пражан. Это тот самый день, когда Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии, развязав таким образом мировую войну 1914 года (ту, которая будет олицетворять для Броха крушение всех ценностей и окончание его трилогии). Чтобы иметь возможность жить в этом мире в безопасности, Швейк до такой степени преувеличивает свою любовь к Армии, Родине, Императору, что никто не может с точностью сказать, кретин он или скоморох. Гашек тоже нам этого не говорит; мы так никогда и не узнаем, что Швейк думает, когда излагает свои конформистские глупости, и именно потому, что мы этого не знаем, он так нас интригует. На вывесках пражских пивных мы видим его всегда маленьким и толстым: так представлял его себе известный иллюстратор книги, но сам Гашек ни разу ни единым словом не обмолвился о внешности Швейка. Мы не знаем, из какой он семьи. Мы его ни разу не видим рядом с женщинами. Обходится ли он без них? Держит ли он свои связи в тайне? Ответов нет. Но что еще интереснее, нет и вопросов. То есть я хочу сказать, нам в высшей степени безразлично, любит Швейк женщин или нет!
Вот он, эстетический перелом, сколь незаметный, столь и радикальный: для того чтобы персонаж казался «живым», «сильным», художественно «состоявшимся», нет необходимости представлять всю возможную информацию о нем; бесполезно заставлять верить, будто он так же реален, как вы и я; для того чтобы он был сильным и незабываемым, достаточно, чтобы он заполнял собой все пространство ситуации, созданной для него автором. (В этом новом эстетическом климате романисту время от времени даже нравится нам напоминать: в том, что он рассказывает, нет ничего реального, все является его вымыслом; так поступает и Феллини, который в конце фильма «И корабль плывет» демонстрирует нам кулисы и все механизмы своего театра иллюзий.)
То, что может сказать только роман
Действие романа «Человек без свойств» происходит в Вене, но название города появляется в романе, если мне не изменяет память, всего лишь два-три раза. Как некогда лондонская топография у Филдинга, топография Вены не упоминается и совершенно не описывается. А каков анонимный город, где происходит столь важная встреча Уль-риха и его сестре Агаты? Вы не можете этого знать; по-чешски город называется Брно, по-немецки — Брюнн; я легко узнал его по некоторым деталям, поскольку сам там родился; стоило мне это сказать, как я стал укорять себя, что действую вопреки намерениям Музиля. Намерениям? Каким намерениям? Ему нужно было что-то скрыть? Да нет же; намерения его были исключительно эстетическими: сосредоточиться на главном; не отвлекать внимание читателя на ненужные географические рассуждения.
Часто смысл модернизма видят в попытке каждого из искусств как можно ближе подойти к его особенности, его специфике. Так, лирическая поэзия отвергла любую риторику, дидактику, украшательство, чтобы забил чистый источник поэтической фантазии. Живопись отказалась от своей документальной, миметической функции, от всего того, что могло бы быть выражено другими средствами (например, фотографией). А роман? Он тоже отказывается быть просто иллюстрацией некой исторической эпохи, описанием общества, защитой какой-либо идеологии и становится на службу исключительно того, о чем «может рассказать только роман».
Я вспоминаю новеллу Кендзабуро Оэ «Блеющее стадо», написанную в 1958 году: в вечерний автобус, полный японцев, входит группа пьяных солдат иностранной армии, которые начинают терроризировать одного пассажира, студента. Они заставляют его снять штаны и показать зад. Студент слышит, как вокруг раздаются смешки. Но солдаты не довольствуются единственной жертвой и заставляют снять штаны половину пассажиров. Автобус останавливается, солдаты выходят, и униженные пассажиры натягивают брюки. Остальные пассажиры выходят из оцепенения и призывают потерпевших заявить в полицию о поведении иностранных солдат. Один из них, школьный учитель, особенно сочувствует студенту: он выходит вместе с ним, провожает его до дому, хочет выяснить его имя, чтобы придать гласности его унижение и обвинить иностранцев. Все заканчивается яростной ссорой между ними. Прекрасная история о трусости, стыдливости, садистской бестактности, которая рядится в любовь к справедливости… Но я говорю об этой новелле лишь для того, чтобы спросить: кто эти иностранные солдаты? Разумеется, американцы, которые после войны оккупировали Японию. Если автор говорит конкретно о «японских» пассажирах, почему он не указывает национальность солдат? Политическая цензура? Особенности стиля? Нет. Представьте, что в новелле японские пассажиры противостоят американским солдатам! Под воздействием этого единственного, четко произнесенного слова новелла превратилась бы в политический памфлет, в обвинение оккупантам. Достаточно отказаться от этого прилагательного, чтобы политический аспект оставался в тени, а свет сфокусировался на основной загадке, которая интересует автора: экзистенциальной загадке.
Поскольку История со всеми своими движениями, войнами, революциями и контрреволюциями интересует романиста не сама по себе, как объект описания, обличения, толкования; романист не слуга историков; если История его очаровывает, то только как прожектор, который вращается вокруг человеческого существования и бросает свет на него, на его неожиданные возможности, которые в мирные времена, когда История замирает, не реализуются, остаются невидимыми и непознанными.
Романы-размышления
Разве требование, призывающее романиста «сосредоточиться на сущном» (на том, что может сказать только роман), не подтверждает правоту тех, кто отвергает рефлексию автора как элемент, чуждый самой форме романа? В самом деле, если какой-нибудь романист прибегает к несвойственным ему средствам, которые принадлежат скорее ученому или философу, не является ли это признаком неспособности быть в полной мере романистом, и только романистом, а также признаком его слабости как художника? Более того, не рискуют ли эти умозрительные размышления превратить действия персонажей в простую иллюстрацию тезисов автора? И еще: не требует ли искусство романа, с его осознанием относительности истин, чтобы мнение автора оставалось скрыто, а право на любое размышление предоставлено лишь читателю?