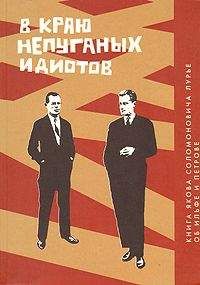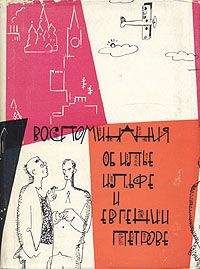Не только образ Лоханкина, но и вообще изображение «Вороньей слободки» ставилось в упрек Ильфу и Петрову. «Над «Вороньей слободкой» смеяться грех…» — писала Н. Я. Мандельштам. Но если это грех, то повинны в нем были не одни Ильф и Петров, но и Зощенко, которого О. Мандельштам считал честнейшим русским писателем, и Булгаков, и многие другие.
Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой…
Главная причина — народ уж очень нервный. Расстраивается мелкими пустяками. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане… Вот в это время кто-то ударяет инвалида кастрюлькой по его лысине. Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.
Тут кто-то за милицией кинулся…[81]
Это — «Нервные люди» Зощенко. И на ту же тему— «На живца», «Баня», «Аристократка» и едва ли не все его ранние рассказы.
В десять часов вечера под Светлое Воскресение утих наш проклятый коридор… И в десять часов вечера в коридоре трижды пропел петух.
Петух— ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще, Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в квартире № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха в квартире удивил меня, а то, что петух пел в десять часов вечера…
В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора стоял неизвестный мне гражданин… Он драл пучками перья из хвоста петуха…
Я опомнился первый и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина…
Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь потому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я себе заведу «своих Шурок» и ем их с кашей…[82]
А это — «Самогонное озеро» Булгакова. На ту же тему — «Трактат о жилище», «Псалом», «Четыре портрета», «№ 13. Эльпит-Раб-коммуна». Коммунальная квартира служит фоном для пьесы «Иван Васильевич» и для «Театрального романа». Символ этого коммунального быта — Аннушка «Чума», появляющаяся уже в ранних рассказах («№ 13», «Самогонное озеро»), потом в «Театральном романе» и играющая существенную роль в сюжете «Мастера и Маргариты»;«где бы ни находилась или ни появлялась она — тотчас же в этом месте начинался скандал…»[83].
Тема дикости, «темного царства», «Персии» в Москве занимает важное место в ранних рассказах Ильфа, написанных отдельно от Петрова, — «Для моего сердца» и «Переулок»:
Летним вечером в московском переулке тепло и темно, как между ладонями.
В раскрытом окне под светом абрикосового абажура дама раскладывает гадательные карты. На подоконник ложатся короли с дворницкими бородами, валеты с порочными лицами, розовые девятки и тузы.
— Для меня, — шепчет дама…
— Для моего сердца… (Т. 5. С. 116).
Будущее дамских переулков похоже на осеннее утро. Оно черное и серое (Там же. С. 120).
В «Двенадцати стульях» дама с гаданием фигурирует в главах, посвященных Старгороду, а тема московской коммунальной квартиры — в главе о домашней жизни «золотоискателя» журналиста Ляписа (выпущенной из второго и последующих изданий романа):
Но тут в передней послышался стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателя отворилась, и гражданин Шарипов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой…
— Что вы делаете? — спросил управдом. — Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?
Шарипов вдруг рассердился.
— Какое тебе дело! Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут…[84]
В журнальных циклах 1928–1929 гг. обывательская среда разрастается до размера целых городов — Пищеслава, Колоколамска. В одном случае Колоколамск фигурирует даже как международная сила: жители его вступают в своеобразный поединок с иностранным государством — Клятвией. Клятвия маленькое государство, в котором легко «угадывается Латвия или другая прибалтийская республика, находившаяся до 1940 г. «под игом независимости». Тема, привычная для нашей литературы: советские граждане и капиталистическое государство, да еще «лимитроф», «санитарный кордон», место убийства курьера Нетте и антисоветского шпионажа. Тем неожиданнее оказывается решение этой темы у Ильфа и Петрова. Жители Колоколамска нашли себе «отхожий промысел» — они ездят в Москву, попадают под машину посольства Клятвии и получают по суду компенсацию: «Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала». Сама республика Клятвия оказывается вовсе не мрачной буржуазной диктатурой, а миниатюрной парламентской демократией, респектабельной и щепетильно соблюдающей международное право.
Председатель Совета Министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Сууп…
В палату был внесен запрос:
Известно ли господину председателю Совета Министров, что страна находится накануне краха?
На это господин председатель ответил:
— Нет, не известно.
Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.[85]
В своем отношении к обывательской среде с ее дикарским бытом Ильф, Петров и Булгаков были вполне солидарны — они ненавидели ее всеми силами души и желали ей гибели. Никакой привлекательности, никаких «народных корней» в гадалках, в появлении петуха или лошади в московской квартире, во всеобщем питии они не усматривали. Патриархальная, азиатская, деревенская природа взбаламученного быта 1920-х гг. была одинаково чужда всем трем писателям.
Обстоятельство это, по-видимому, можно не доказывать, поскольку речь идет об Ильфе и Петрове; однако Булгакову в последние десятилетия стали приписывать противоположные настроения. Представители того направления в советской публицистике, которое может быть названо воинственно-«почвенническим», решили зачислить Булгакова в свои ряды. Они утверждают, что нашли главного героя «Мастера и Маргариты». Герой этот, вопреки заглавию, вовсе не Мастер. «Не стоит думать, что писатель полностью на его стороне»: Мастер — пессимист, носит шапочку со знаком, напоминающим масонский, а что такое масоны, наши критики знают досконально. Кроме того, Мастер слишком занят проблемами искусства, а главное ведь — «не величественное рассуждение о судьбах искусства, но что-то очень жизненно необходимое, еще нерешенное, как раздвигающаяся полоса одной идеи, в центре которой Россия». Не мог Булгаков считать главным героем и Иешуа Га-Ноцри: Иешуа, наверное, все-таки не его герой». Главный герой Булгакова — поэт Иван Бездомный. Он— «Иванушка», он— исконный, неученый, деревенский, отрекающийся в конце концов от «надетой» на него «бездомности» и возвращающийся на родную почву[86].
Трудно придумать что-либо более чуждое подлинному Булгакову. «…Изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые надолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина», — эту задачу Булгаков объявлял (в известном «Письме советскому правительству») одной из главных в своем творчестве[87]. Справедлива ли такая формула или нет (и существуют ли в действительности у того или иного народа какие-либо общие черты такого масштаба) — вопрос другой, но ясно, что подобная национальная самохарактеристика едва ли обрадует современных «почвенников». Если бы писатель ценил в Иванушке его почвенность и «сермяжность», он сделал бы его в финале романа из мнимого народного поэта подлинным — подобным Есенину или П. Васильеву. Вместо этого Бездомный признает своим Учителем именно Мастера, под его влиянием отрекается от какой бы то ни было поэзии и становится стопроцентным интеллигентом — профессором-историком.
Булгаков не любил «деревенской» поэзии, как не любил он и певцов российской провинции — «Тетюшанской гомозы» (так именуется в «Театральном романе» книга беллетриста Егора Агапенова). Пародийные строки «сермяжного» барда Пончика-Непобеды в булгаковской пьесе «Адам и Ева»: ««Эх, Ваня! Ваня!» — зазвенело на меже…»— очень напоминают аналогичную пародию Ильфа и Петрова: «Инда взопрели озимые…». «Булгаков — писатель городской, нету него своей селыцины, земли, к которой он прирос корнями», — заметил В. Лакшин[88], и это положение может быть подтверждено всем творчеством автора «Мастера и Маргариты». На деревню, в которой происходит действие «Записок юного врача», Булгаков смотрит такими же глазами, как Чехов в «Мужиках» и «В овраге». Это «тьма египетская», с которой призван бороться автор: «И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленой тьма египетская… и в ней будто бы я… не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и всё вперед, вперед…»[89]