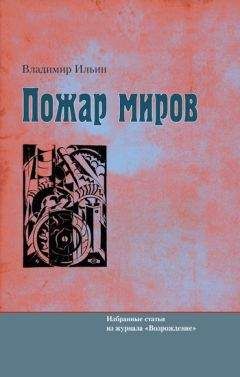(Нам каннибальски хорошо
Как пятистам свиньям.)
Толстого не поняли его враги и еще менее поняли его друзья: обычная, бесконечно печальная судьба гениального одиночки. Но, как и все важнейшие явления русской литературы и поэзии, все в загадке Толстого открывается золотым ключом религиозной метафизики, перед которым устоять не могут никакие запоры.
В последнее время не только мелкие дилетанты «вокруг» русской литературы, но иногда и настоящие ее исследователи склонны противопоставлять Толстого и Достоевского. Не надо очень увлекаться этим противопоставлением, обещающим слишком легкую и слишком дешевую псевдодиалектическую поживу. Применяя известное выражение Герцена, можно сказать, что у Толстого и Достоевского головы обращены в противоположные стороны, но туловище у них, а тем более сердце, несомненно, общее.
Есть у Толстого большая «народная» трагедия, вполне ему удавшаяся, и она представляет собою несомненный театральный двойник «Преступления и наказания» Достоевского.
Это: «Власть тьмы».
Есть сведения, что, когда эту вещь читали императору Александру III, тот неоднократно прерывал ее чтение восклицанием:
– Как это гениально!
И действительно, вариации Толстого на тему Достоевского удались Льву Николаевичу блистательно. Взявшись за эту тему, ему нельзя было отступать и идти назад, пришлось идти вперед и нагромождать ужасы. Но Толстой справился с трудностями, где другой, менее сильный, автор изнемог бы. У Толстого и хрустят кости убиваемого младенца, и идет торг с отвратительной бабой по поводу покупки ядовитых порошков; и наглый блуд предстоит в особенно отвратительных формах.
Заметим, кстати, что Толстой по какой-то причине, вероятно – в силу того же бегства от культуры, непонятным образом возненавидевший Шекспира, здесь действует типично шекспировским методом нагромождения гнусностей и кровавых ужасов. Но последняя очень удавшаяся картина покаяния на «провалившейся свадьбе» с оттеснением на третьи роли агентов власти удалась блистательно. Полно глубокого символического смысла то, что голос Божий здесь представлен заикой Акимом, «медленноречивым» и «гугнивым». Словно из глубины веков опять заговорил «божественным покровен мраком медленноречивый Моисей».
Проповедь Слова Божия, а тем более вещание от имени Божьего не вяжется с человеческим красноречием, которое здесь народ, со своим беспощадным юмором, издевательски прозвал «облакат, нанятая совесть», «бесструнная балалайка»… Вся пьеса по-настоящему, по-мужицки корява, движется словно через пень да колоду как мужицкая телега по русским непроходным дорогам. И все пахнет дымом курной избы и пролитой человеческой кровью. Это тем более страшно, что убит младенец – кстати сказать, любимая тема Достоевского с его «слезинкой ребенка». Но здесь эта слезинка превратилась в кровавую лужу, посреди которой валяется раздавленное между досками младенческое тело.
«Страшна правда дел человеческих и Божиих»! – и не учитываема бездна человеческих грехов, призывающих «бездну Божьего милосердия». Ее и уловил гугнивый Аким, один торжествовавший среди всеобщего панического недоумения и рушившегося, под напором духовных волн покаяния, свадебного пира.
С первых же шагов своего литературного поприща, которое так великолепно началось «Детством и отрочеством», Толстой напитал и свою душу, и своих читателей дивным образом святой Руси – образом юродивого Гриши. Собственно говоря, это и есть основная тема души Толстого, особенно если принять во внимание, что впечатления детства самые сильные и неизгладимые. Мы и будем рассматривать все, что говорил и писал Толстой, как и все его поступки вплоть до последнего бегства, именно как странные, для разума необъяснимые, но вещие поступки юродивого во Христе.
Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» (Кор. 1, 19). «Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (I Кор. 1, 21).
Надо понимать, каким образом это трудно приемлемое для человеческой гордыни речение апостола язычников, подкрепляющего свою проповедь текстами из «пятого евангелиста» – пророка Исаии, может быть и должно быть приложено к Толстому. Во времена Толстого идолом, которому молились все и к которому стремились «приспособить» и христианство, был идол цивилизации. Цивилизация, со всеми привходящими обстоятельствами и ее миросозерцательным базисом, так называемой точной наукой и позитивной философией, сделалась настоящим Молохом, которому приносились в изобилии человеческие жертвы, – душ и тел. Речь здесь идет не только о войнах, которые принимались, так сказать, с чистой совестью и тоже во имя цивилизации. Бисмарк мог, не тревожа сознания ни у кого, а только возбуждая политическую полемику, произнести свой знаменитый афоризм: «Великие вопросы времени будут решаться не речами и голосованиями, а железом и кровью». Кажется, только один Тютчев запротестовал против этого в своем известном стихотворении, где он призывал к закону любви в международных отношениях. Это, кстати, очень пришлось по душе Л.Н. Толстому. Думается, что одна из причин обожания Толстым Тютчева лежит здесь. Впрочем, ухитрялись сочетать и то и другое, то есть речи и голосования с железом и кровью.
При всем том продолжали себя считать «христианами», а на пропаганду мира и любви смотрели попросту как на нечто до крайности субверсивное и вредное. По выражению В.В. Розанова, христианство превратилось в риторику, которую никто не принимал всерьез, за исключением, конечно, немногих святых. Принял христианство всерьез и Л.Н. Толстой. Здесь надо искать подлинных истоков его юродивости, его опрощенства и всего того, что было как бы перчаткой, вызовом, брошенным обезбоживаемому миру. Здесь и возникли те странности, недоразумения и прямые нелепости, которые случайно связали Толстого с его идеологически лютейшими врагами – «светлыми личностями», то есть безбожно материалистической интеллигенцией социалистически-коммунистического толка. Мы оставим всякую политику в стороне, как и Толстой отказался от нее наряду с «благами цивилизации», а рассмотрим только трагедию религиозного сознания Толстого, следствием которой было не только его превращение в юродивого и его нелепая, иллюзорная связь со «светлыми личностями», но также и его временное еретичество и уход из Церкви, ответившей ему отлучением.
Л.Н. Толстой переживал эмпирическую Церковь, как включенную в круг процессов, создававших цивилизацию с ее роковыми итогами – войнами и революциями. На науку и искусство он смотрел теми же глазами. Отсюда вид нигилистического опрощенства, которое о. Георгий Флоровский остроумно и ядовито наименовал «робинзонадой». Но именно в критике этого автора больше остроумия и яда, чем правды и стремления постигнуть трагедию Толстого изнутри. Не любивший и отвергавший «толстовство» H.A. Бердяев все же стремился понять его изнутри и до некоторой – должной – степени понял, особенно во всем, что касается проблемы «непротивления злу», о которую споткнулся и так больно расшибся Толстой со всем его «обществом». В силу целого ряда причин эта тема заслонила от него большинство других, столь важных для души человека тем христианской философии и морали. Это, между прочим, объясняется неподвижными свойствами ума Толстого, хотя и очень большого и честного, но негибкого, одностороннего и не прошедшего в свое время нужной школы и техники мышления, столь необходимой для решения этой сложной и деликатной совокупности проблем. Однако нельзя преувеличивать предполагаемого «невежества» Толстого. Он был очень образован, знал в совершенстве три языка – помимо русского – и, читая всю жизнь, приобрел очень большой запас сведений. Во вторую половину своей жизни он овладел греческим языком и элементами еврейского. Вкусы его в области литературы и поэзии были тоже очень тонки, хотя не без некоторых странностей и аномалий (Шекспир). Его тонкая оценка Фета и Тютчева и влечение к ним говорят за себя.
Трагедия Л.Н. Толстого есть трагедия русского морального сознания. Именно его эта особенность, которую можно назвать монизмом морального сознания, сближает его с Сократом и с вышедшими из Сократа киниками.
«Новый Антисфен» – Толстой, он же и «новый Сократ», подобно своим древним предшественникам во главу угла поставил логику и мораль. Можно даже сказать, что против Молоха цивилизации выставил он Молох рациональной морали, которой тоже принес все в жертву – вплоть до идеи Воскресения, чем совершенно обесплодил свое христианство, да и сделал бессмысленными все жертвы, приносимые ради него. Однако было еще два других жутких, истязавших и подгонявших Толстого в его вечном бегстве бича: страх смерти и страх плоти.