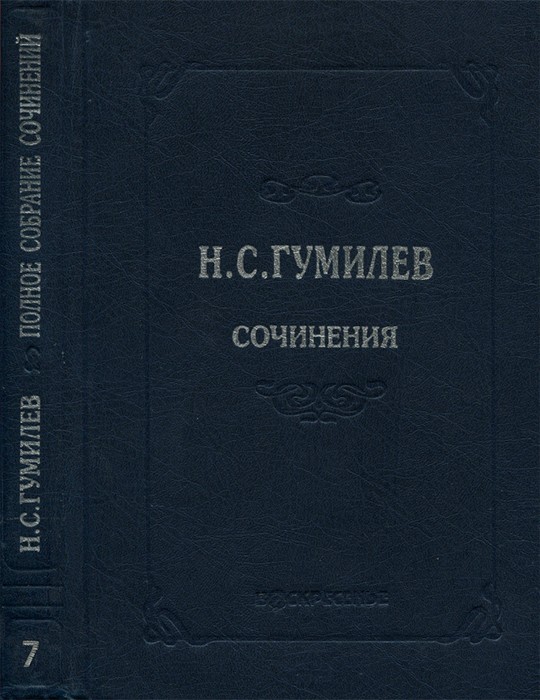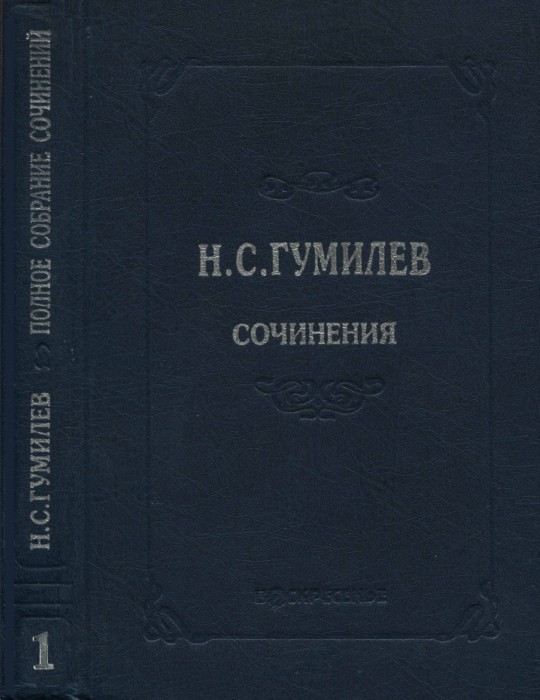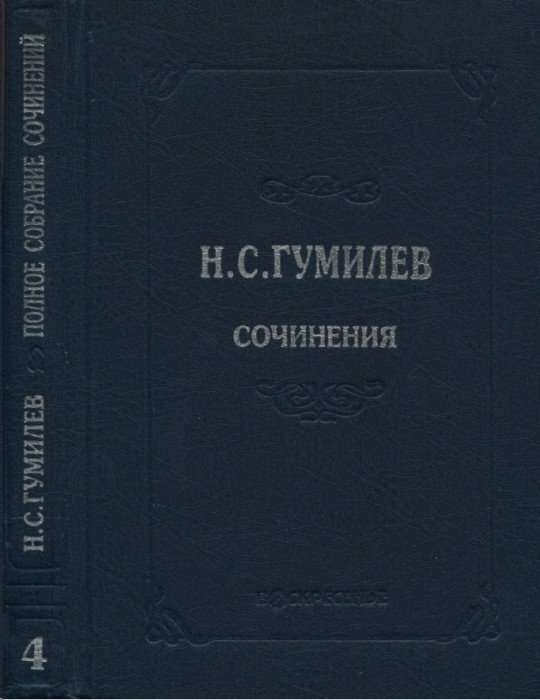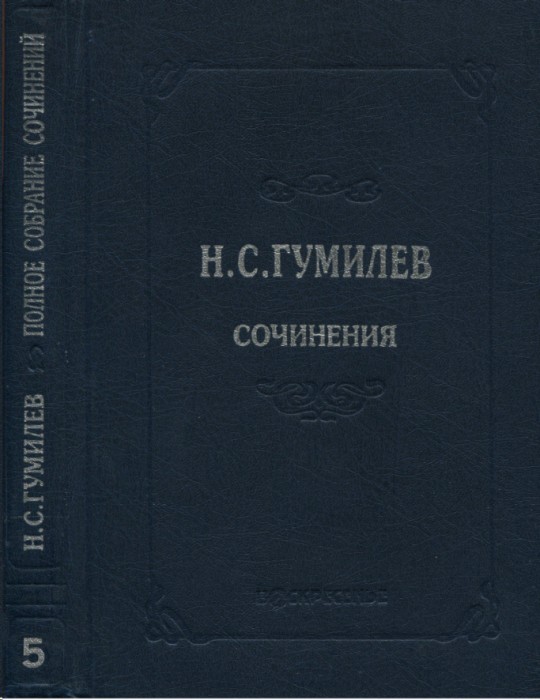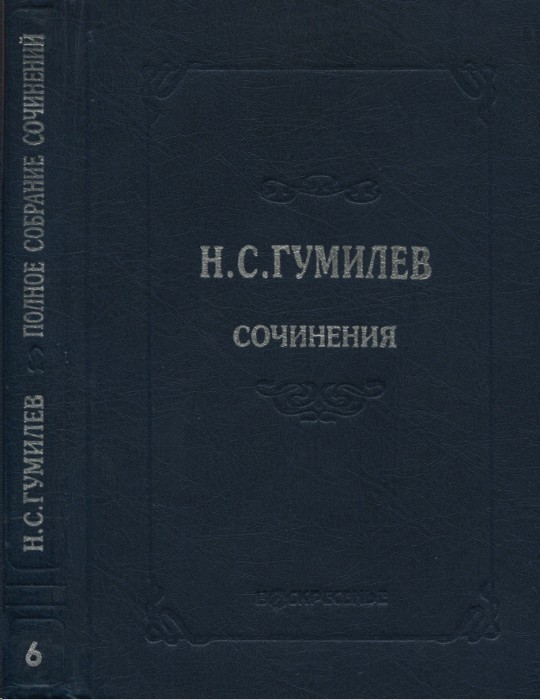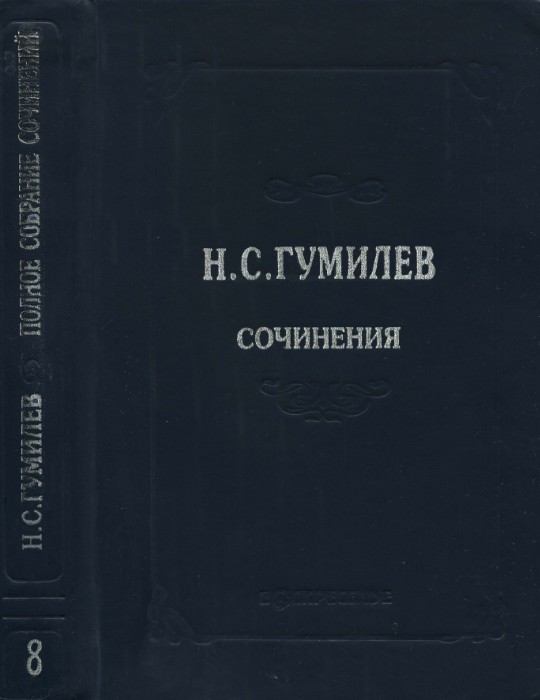выражений? Но такой читатель кажется снобом: поиск самодостаточной красоты — не превращается ли в пустую словесную эквилибристику, фокусничество? Не привлекает Гумилева и современный экзальтированный читатель, непременно ожидающий от поэта чуда, тогда как подобное ожидание было бы более уместно либо от спирита-медиума, либо, на худой конец, от фокусника в цирке <...>.
8) Тем не менее, даже сейчас подлинные поэты, поэты духовно зрелые и сознающие свою особую миссию среди «литераторов» существуют, хотя читательская аудитория их до обидного мала <...>.
9) И в то же время некоторые признаки обещают, что в будущем, возможно — в ближайшем будущем, обстоятельства вдруг сложатся так, что подлинные поэты внезапно обретут невиданную читательскую аудиторию и будут играть принципиально важную роль в истории человечества» (Зобнин. С. 80–83).
Статья «Читатель», таким образом, оказывается религиозно-философским оправданием деятельности Гумилева — теоретика стиха: возвращаясь к символистской идее «поэта-медиума», он переосмысляет эту идею, указывая на ответственность художника перед читателем и осмысляет требование «формального совершенства» стиха, высказанное им еще в «предакмеистические» годы (см. № 24 наст. тома и комментарии к нему) в принципиально новом, «сотериологическом» контексте. Статья «Читатель» носит следы «поэтократической» концепции (восходящей, очевидно, к Платону), которую Гумилев исповедовал в трагические годы войны и революции. «...Он уверен в том, что, если политикой будут заниматься поэты или, по крайней мере, писатели, они никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти между собой общий язык. Короли, магнаты или народные толпы способны столкнуться в слепой ненависти, литераторы же поссориться не в состоянии», — передает слова Гумилева Г. К. Честертон (см.: Исследования и материалы. С. 301). «Слово ПОЭТ, — свидетельствует К. И. Чуковский, — Гумилев в разговоре произносил каким-то особенным звуком — ПУЭТ, — и чувствовалось, что в его представлении это слово написано огромными буквами, совсем иначе, чем все остальные слова. Эта вера в волшебную силу поэзии, “солнце останавливавшей словом, словом разрушавшей города”, никогда не покидала Гумилева. В ней он никогда не усомнился. Отсюда и только отсюда то чувство необычайной почтительности, с которым он относился к поэтам и раньше всего к себе самому как к одному из носителей этой могучей и загадочной силы» (Чуковский К. И. Воспоминания о Н. С. Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 136).
Стр. 50. — Косвенная, но очень высокая оценка Гумилевым творчества Гюстава Флобера; что касается прозаических произведений собственно поэтов — Бодлера и Артура Рембо, то имеются в виду их прозаические книги — «Маленькие поэмы в прозе» (1869) и «Сезон в аду» (1871). Стр. 54. — Фор Поль (Fort, 1872–1960) — французский поэт, автор циклов ритмической прозы под общим названием «Французские баллады»; как иллюстрацию слов Гумилева можно привести отрывок из его ст-ния «Песенка майского жука»:
Майский жук жужжит на воле. Дагобер томится в школе. Он построил Сен-Дени. Близятся каникул дни.
Майский жук жужжит на воле. Шарлемань томится в школе. Принял в Риме он венец. Скоро мытарствам конец. <...>
Стр. 60–61. — «Аксиома Кольриджа — по-видимому слова английского поэта-романтика Сэмюэля Тейлора Кольриджа <...>, содержащиеся в его “Застольных беседах” (“Table-talk”): “Определение хорошей прозы — нужные слова на нужном месте, хорошей поэзии — самые нужные слова на самом нужном месте”» (ПРП 1990. С. 292). Стр. 121–122. — О сквозном образе «детей Каина» и, в частности, «каиниток» в творчестве Гумилева см. комментарии к №№ 1, 6 в т. VI наст. изд. Стр. 138–139. — Беллами Эдвард (Bellamy, 1850–1898) — американский писатель, журналист и общественный деятель, автор утопического футурологического романа «Looking backward. 2000–1887» (1888), изданного в русском переводе в 1889 г. под названием «В 2000 году». Стр. 141. — Имеется в виду героиня драмы Габриеля д’Аннунцио «Джоконда» (1899).
85
Дракон. Альманах стихов. Вып. 1. Пб., 1921.
ПРП, ПРП (Шанхай), ПРП (Р-т), СС IV, Ст ПРП, ЗС, Изб (Слов), ПРП 1990, Ст ПРП (ЗК), СС IV (Р-т), Соч III, Полушин, Изб (Слов) 2, ОС 1991, СП (Ир), Круг чтения, СПП 2000, СС 2000, Изб (Вече), Проза поэта, Серебряный век: поэзия, критика. Хрестоматия. Чебоксары, 1993, Школа классики, Школа классики 2002, «Цех поэтов». Кн. 1. Берлин, 1922, «Цех поэтов». Кн. 1. Репринтное воспроизведение изд. 1922. Берлин, 1978.
Дат.: 1920–1921 гг.
Перевод на англ. яз. — Lapeza.
Статья тесно связана с гумилевскими курсами по теории поэзии 1919–1921 гг. и представляет собой экстракт содержания авторских конспектов этих курсов (см. т. X наст. изд. [61]).
Гумилев читал лекции по теории поэзии в Институте Живого Слова, литературной студии Дома Искусств, студии переводчиков при «Всемирной литературе», а также в студиях Пролеткульта и в 1-й культурно-просветительной коммуне милиционеров. Сохранились воспоминания слушателей Гумилева — И. М. Наппельбаум, С. К. Эрлих, Л. Я. Гинзбург (см.: Жизнь Николая Гумилева. С. 188, 181, 175), содержащие описания отрывочных фрагментов этих занятий, вроде упоминания И. В. Одоевцевой об одном из его «педагогических приемов»: «Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов — так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова — дактиля, Георгий Иванов — амфибрахия» (Одоевцева I. С. 32).
Известно также, что эта деятельность Гумилева по-разному оценивалась современниками. «В последние годы жизни он был чрезвычайно окружен, — писал А. Я. Левинсон, — молодежь тянулась к нему со всех сторон, с восхищением подчиняясь деспотизму молодого мастера, владеющего философским камнем поэзии. В «Красном Петрограде» стал он наставником целого поколения: университет и пролеткульт равно слали к нему прозелитов» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 213). Еще более откровенно пишет об этом же С. Познер: «В жестокой, звериной обстановке советского быта это был светлый оазис, где молодежь, не погрязшая еще в безделье и спекуляции, находила отклики на эстетические запросы» (Там же. С. 238). С другой стороны, гумилевские беседы о «философском камне поэзии» вызывали у многих литераторов тех лет если не раздражение, то, по крайней мере, ироническую улыбку. «...Тогда было распространено суеверие, — вспоминал К. И. Чуковский, — будто поэтическому творчеству можно научиться в десять-пятнадцать уроков. Желающих стать стихотворцами появилось в то время великое множество. Питер внезапно оказался необыкновенно богат всякими литературными студиями, в которых самые разнообразные граждане обоего пола (обычно невысокой культуры) собирались в определенные дни, чтобы под руководством хороших (или плохих) стихотворцев изучать технику поэтической речи. <...> Гумилев в первые же месяцы стал одним из наиболее деятельных студийных работников. <...> Между тем, его курс был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его