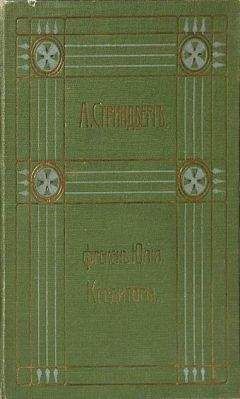Густав. Да! Знаешь, что? — Эта женщина никогда не любила тебя!
Адольф. Что ты говорить?
Густав. Прости меня, но женская любовь состоит в том, чтобы брать, получать, и если она ничего не берет, то и не любит! Она никогда не любила тебя!
Адольф. Другими словами, ты думаешь, что можно любить только раз?
Густав. Нет! Но одурачить себя человек позволяет только один раз; потом же у него открываются глаза! Ты еще не был одурачен? И должен остерегаться людей, которые уже испытали это! — Они народ опасный!
Адольф. Твои слова врезаются ножом, и я чувствую, как во мне что-то разрывается на части, но я не могу этому помешать; и все-таки мне становится легче, потому что здесь вскрываются нарывы, которые никогда не назрели бы сами! Она никогда меня не любила! — Зачем же тогда она выбрала меня?
Густав. Скажи мне сначала, как она решилась выбрать тебя, и ты ли выбирал ее или она тебя?
Адольф. А Господь его знает! Как это вышло? Конечно, не в один день!
Густав. Хочешь, я попробую разгадать, как это случилось?
Адольф. Напрасный труд!
Густав. Нет, по тем сведениям, которые ты дал мне о себе и о своей жене, я могу восстановить весь ход события. Вот, слушай. бесстрастно, почти шутя. Муж был в отъезде. Она же осталась одна. Сначала ей было приятно чувствовать себя свободной; потом наступила пустота, так как я предполагаю, что, прожив одна четырнадцать дней, она тяготилась одиночеством. Но вот, появляется «другой», и пустое пространство мало-помалу заполняется. Благодаря сравнению отсутствующий начинает блекнуть, по той простой причине, что он — далеко. — Ты же знаешь, обратно пропорционально квадрату расстояния. — Потом они чувствуют пробуждение страсть, они начинают бояться за самих себя, за свою совесть и за «него»… Они ищут защиты и прячутся за фиговым листом, играют в «братца и сестрицу». И чем чувственнее становится их любовь, тем больше они одухотворяют ее.
Адольф. «Игра в братца и сестрицу»! Откуда ты это знаешь?
Густав. Догадывался! Детьми мы играем в папашу и мамашу, а когда вырастаем, — в братьев и сестер, чтобы скрыть то, что следует скрывать! Затем, наши влюбленные дают обет целомудрия. Идет бесконечная игра в прятки, пока, наконец, они не сталкиваются в каком-нибудь достаточно темном углу, убежденные, что там их никто не увидит. С притворной суровостью. Но они чувствуют, что кто-то и в этой темноте следит за ними, страх их охватывает, и в страхе возникает призрак отсутствующего — становится действительностью, меняется и переходит в кошмар, нарушающий их сон, превращается в кредитора, стучащего в двери, и они видят его черную руку между своими за обедом, и слышат его жуткий голос в ночной тишине, которая должна нарушаться одним лишь бурным пульсом. Он не может запретить им принадлежать друг другу, но он смущает их счастье. Открыв эту силу, омрачающую их счастье, они бегут, наконец, но напрасно, бегут от воспоминаний, которые преследуют их, от долга, уплаты которого требует кредитор, и от людского суда, который их страшит. И не в силах взять на себя вину, они во что бы то ни стало ищут козла отпущения и убивают его. Они считали себя умами, свободными от предрассудков, а вместе с тем у них не хватало духу сказать мужу прямо в лицо: Мы любим друг друга! В них. было слишком много трусости, и им пришлось убить своего тирана. Не так ли?
Адольф. Да, но ты забываешь, что она воспитала меня, дала мне новые мысли.
Густав. Нет, я этого не забываю. Но объясни тогда, почему же она не сумела воспитать того… другого и создать из него свободный ум?
Адольф. Он же был совершенный идиот!
Густав. Да, да… правда, он был идиот! Но «идиот» понятие неопределенное. И судя по характеристике, которую дает ему его жена в своем романе, его идиотизм исчерпывается исключительно его неспособностью понять свою жену. Прости… Но… действительно ли у твоей жены такой уж глубокий ум? В её произведениях я не нашел никакой глубины!
Адольф. Да, и я тоже! Хотя должен сознаться, что и я с трудом понимаю ее. Точно механизмы наших мозгов не могут войти в соприкосновение и точно в голове у меня что-то испортилось, когда я стараюсь понять ее!
Густав. Может быть, и ты тоже… идиот?!
Адольф. Смею думать, что нет! И мне почти всегда кажется, что она неправа. Неугодно ли, например, прочесть вот это письмо, которое я получил сегодня. Вынимает из бумажника письмо.
Густав. Пробегая письмо. Гм!.. Узнаю этот стиль!
Адольф. Почти мужской! Не правда ли?
Густав. Да. Я видал человека с таким же стилем! Она величает тебя братом! Вы продолжаете эту комедию даже друг перед другом? Фиговый лист всё еще существует, хотя и увядший! И ты с ней не на ты?
Адольф. Нет. Ради большего уважения.
Густав. Ага! И сестрой она себя зовет тоже, конечно, чтобы внушить тебе больше уважения к себе!
Адольф. Я сам хочу ставить ее выше себя, хочу, чтобы она была как бы моим лучшим я!
Густав. Ах! Будь лучше сам своим лучшим «Я». Может быть, это менее удобно, чем предоставлять это другому! Неужели ты хочешь быть ниже твоей жены?
Адольф. Да, хочу! Мне приятно чувствовать, что она всегда несколько выше меня. Ну вот тебе пример: я выучил ее плавать. И мне теперь забавно, что она хвастает, будто она плавает лучше и смелей меня. В начале я притворялся неловким и трусливым, чтобы ободрить ее; но настал наконец день, когда я заметил, что я менее способен и храбр, чем она. Мне представилось, что она не шутя отняла у меня всю мою силу!
Густав. Ты научил ее еще чему-нибудь?
Адольф. Да… но это между нами. Я обучил ее грамоте, о которой она понятия не имела. Когда же она начала вести всю домашнюю корреспонденцию, то я перестал писать. И ты просто не поверишь — в какой-нибудь год от недостатка практики я совершенно забыл грамматику. А ты думаешь, она помнит, что постигла эту науку, благодаря мне? Нет, разумеется, я теперь — идиот!
Густав. Да! Ты уже — идиот.
Адольф. Если говорить в шутку, разумеется!
Густав. Разумеется!.. Но ведь это какой-то каннибализм. А ты знаешь, что это значит? А вот что: дикари едят своих врагов, чтобы взять таким образом все их высшие качества! Эта женщина съела твою душу, мужество, твое знание…
Адольф. И мою веру! И мысль написать её первую вещь подал ей я…
Густав удивленно. Вот как?
Адольф. Я ободрял ее похвалой даже, когда мне самому её работа не нравилась. Я ввел ее в литературные круги, где ей легко было собирать, мед с пышных цветов. И опять — таки я, благодаря моим связям, сдерживал критиков. Я раздувал её веру, раздувал до тех пор, пока сам не начал задыхаться. Я давал, давал и давал, пока у меня у самого ничего не осталось! И знаешь — я хочу сказать тебе всё… теперь более, чем когда — либо, «Душа» для меня представляется чем-то загадочным… Когда мои артистические успехи начали совершенно затмевать её славу, её имя — я ободрял ее, умаляя себя в её глазах, унижая свое искусство. Я старался доказать ей ничтожную роль всех художников вообще, я приводил такие веские доводы в защиту моего положения, что в конце концов сам поверил себе, и в одно прекрасное утро решил, что живопись — искусство бесполезное. Так что тебе пришлось иметь дело просто с карточным домиком.
Густав. Позволь… если мне не изменяет память, в начале нашего разговора ты уверял, что она ничего не берет от тебя.
Адольф. Теперь, да! Потому что теперь уже нечего брать.
Густав. Змея сыта, и теперь ее уже тошнит!
Адольф. Может быть, она взяла у меня больше, чем я думаю.
Густав. В этом уж можешь быть уверен. Она брала без твоего ведома, а это значит — красть.
Адольф. Может быть она ничего не делала, чтобы воспитать меня?
Густав. Зато ты воспитал ее! Без всякого сомнения. В этом всё её искусство, что она заставила тебя поверить противоположному. Интересно было бы узнать, как это она пробовала воспитать тебя?
Адольф. О!.. Сначала… Гм!..
Густав. Ну?
Адольф. Я…
Густав. Прости, но ты сам говорить, что это — она…
Адольф. Нет, теперь не могу сказать…
Густав. Ну, вот видишь!
Адольф. Но все-таки… Она украла у меня всю мою веру. И я опускался всё ниже и ниже, пока не явился ты и не вдохнул в меня новой веры.
Густав, улыбаясь. В скульптуру?
Адольф нерешительно. Да.
Густав. И ты веришь в нее? В это абстрактное, давно уж нерешенное искусство младенчества народов? И ты веришь, что можешь работать над чистой формой и тремя измерениями? Веришь в положительный смысл современности, в то, что ты можешь дать иллюзию без красок, — слышишь, — без красок? Верить?
Адольф подавленный. Нет!
Густав. Ну, и я не верю!
Адольф. Зачем же ты говорил мне об этом?
Густав. Мне было жаль тебя!
Адольф. Действительно, я жалок! Теперь я — банкрот! Отпет! А самое худшее, — теперь у меня нет и… её.
Густав. А зачем тебе она?
Адольф. Она должна быть тем, чем был для меня Бог, пока я не стал атеистом: объектом деятельного преклонения.