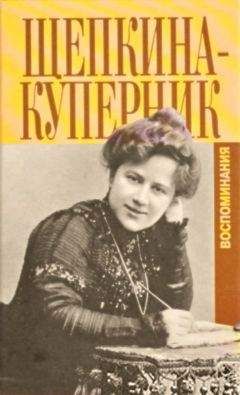– Зазнался, зазнался ты очень, – накинулась на него Анна Акимовна. – Вот уж посади за стол… забыл, кто ты такой… Что за вельможа?.. Что ты о себе думаешь?
Ефим стал перед нею, головой покачивает: – Ты-то от каких князей род ведешь?
– Да как ты смеешь равняться-то? Бессовестный ты такой! Мой батюшка купец был, свою торговлю вел…
– Да-с, да-с! Нам небезызвестно-с! Ну, что вы, купцы? Ведь один обман от вас только. Я вот хоть бы вчера платок купил; божилось лихое твое племя; износу нет, – а вот посмотри-ко, – весь светится!
И покойно так рассказывает, платок развертывает; а она-то дрожит, вся бледная.
– Я барыне жаловаться буду! – крикнула. – Ты не смей издеваться, мужик бестолковый.
– Постой, постой, – заговорил Ефим, словно изумился.
– Да – мужик бестолковый! – кричит Анна Акимовна.
Ефима словно кто против шерсти повел; кудрями он тряхнул и бороду погладил.
– Погоди, погоди! – начал он, сдерживая свой голос звучный. – Говоришь ты: мужик… Ну, признаюсь тебе сам, точно я мужик. И из деревни я недавно – тоже признаюсь. Жил я, пахал, сеял, кормился сам, и продавал, и с людьми чисто поступал, дружно жил. Я нраву веселого. А ты купеческая дочка, Анна Акимовна, чем ты взяла? Что из себя-то ты взглядна? Это сущий пустяк. Первое дело – душа, нрав. Ты задорна, строптива вольно…
– Как смеешь? – запищала она.
А он свое:
– Лет ты хоть не молодых, а уважения тебе ни от кого нету… Как ты себе ни величайся, как ни кичись, – идут люди, а сами и не спросят: что это за Анна Акимовна на свете живет?.. Мой-то батюшка землю пахал, и всяк скажет: «Добрый мужичок был покойник!» А твой, хоть и в лисьих шубах ходил, да слава-то нехороша.
Размолвились они шибко и говорить друг с другом перестали, только за столом один другому все шпильки разные подпускают. А между тем оба похудели, побледнели, оба задумываются и пригорюниваются, когда одни. Наконец Ефим пошел решительно. Раз, после долгих насмешек Анны Акимовны над мужиками и мужицкими привычками, Ефим выговорил: «Эх, матушка Анна Акимовна! А я, мужик, ведь за вас посвататься хотел. Что? – думаю, – девушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозом сбредет». Она вспыхнула и вздрогнула; а он продолжал: «Полноте, матушка, не извольте гневаться: нездоровье приключится. Опаски насчет сватовства не имейте. Пришла было дурь в голову и прошла. Всяк сверчок знай свой шесток. Мы себе ровню по-высмотрим». И точно, Ефим стал почти каждый день уходить со двора, принарядившись; приходил с песнею, и весь повеселел. Анна Акимовна притихла; ждет, что будет. Раз вечером приходит Ефим и объявляет в людской, что хочет идти к барыне – позволенья просить жениться; потом обращается к купеческой дочке: «Уж вы, Анна Акимовна, старого гнева не помните, не обидьте мою суженую. Девочка славная!» Анна Акимовна побелела вся, и губы у ней задрожали. Побелела вся и вышла. Спряталась в уголку на лестнице и принялась горько плакать; долго плакала и к ужину не пришла… Как сказали об этом Ефиму, он прямо к ней бросился, обнял ее крепко и целовать стал… Она так и ахнула, глянула на него, узнала, да так и обвилась руками около его шеи, а сама плачет-плачет…
Он ее на руках вынес из того уголка. Она вырываться, – не пускает; поставил против месяца-света.
– Ага, купеческая дочка, Анна Акимовна! – промолвил, – теперь ты моя!
И так вымолвил, словно он врага своего лютого полонил; и у самого слезы две скатились, и такая усмешка злобная! Страшно и чудно на него смотреть тогда было.
Женились они. С первого же дня свадьбы Ефим начал чудить над женою, смирять ее. Попросил он ее, чтобы на девичник и на свадьбу позвала своих знакомых и родню дальнюю – купчих; она позвала. Ефим никого от себя на девичник не пригласил, и Анна Акимовна была очень рада; она очень боялась убогих гостей, – чуть дверь отворится, она в лице изменится, но никто не пришел из убогих, купчихи одни сидели и орехи щелкали. Зато на другой день только что из-под венца, в дверях уже молодые были встречены с хлебом-солью мужичонком в лаптишках и в зипунишке ветхоньком. Отворили дверь – вся изба полна мужиками в лаптях. Анна Акимовна зашаталась и могла только прошептать: «Злодей!» Купчихи попятились назад, надулись; Ефим попросил их не спесивиться, погулять на свадьбе; они от него к стене отвернулись; тогда Ефим им и двери настежь… Анна Акимовна так была убита, что на другой же день захворала серьезно. Ефим затужил, закручинился, целые ночи над нею просиживал и все глядел на нее; но и тут был суров с нею, и только раз нежными словами упрашивал ее, чтоб лечилась. Она только отвернулась. После того он стал еще суровее; а когда она выздоровела, то житья ей не давал, – все за прежнюю гордость отплачивал. «Утеряли, – говорит, – вы, Анна Акимовна, свое-то княжество за мною! Вот ведь маху-то дали, – просто беда!» Она все молчит, а он все глядит на нее, как на своего врага жестокого, да приговаривает иной раз с усмешкою: «Жгуча крапива родится, да уварится!» Она сохла и чахла от его попреков; да ему и самому нелегко было жить так: постарел он, сморщился, веселость свою потерял, усмешка стала у него язвительная, да слова такие едкие и злобные… Недолго выдержала Анна Акимовна; умерла она осенью, тихо, без мучений. Ефима не было дома в это время: услан был куда-то барынею. Как воротился, увидел ее на столе – стал тут, ни слова не сказавши, и «простоял целую ночь, не шевельнулся, не вздохнул. Наутро пошел, гроб купил, к священнику зашел, попросил, и могилу вырыл ей сам. Сзывал на похороны. Совсем спокоен человек был, кажись, а все чего-то страшно было; все сердце недоброе чуяло, вещало…» И точно, вышло недоброе.
Отнесли на погост Анну Акимовну и в сырую землю схоронили. Заходили с кладбища люди; поминальный обед был, и Ефим сам распоряжался. Как разошлись все, он лошадей на водопой повел и говорит Мише:
– Миша, слушай да помни! Коли я пропаду, все мое добро отказываю жениной тетке; пусть ей все отдадут. Слышал?
Перепугался до смерти Миша.
– Слышу, – говорит.
– Ну, помни!.. – И поскакал.
Вбежал Миша в людскую, дрожит всем телом.
– Ефим хочет рук<и> на себя наложить!
Всполошил всех: побежали к водопою. Все лошади под горою к раките привязаны, а Ефима нет нигде… Окликать, искать, и нашли его шапку около колодца, старого, заброшенного… А в колодце том давно еще девочка утонула, – и дна в нем не было. Около этого самого колодца шапку его нашли, скликали людей с баграми и с крюками да с говором шумным Ефима мертвого выволокли (стр. 113).
Нет сомнения, что в Ефиме всякий признает черты чисто русского характера, и притом характера, не сглаженного образованностью, то есть обычного именно в простонародье. Это дуроломство, эта неспособность к мирному забвению и прощению, эта бессмысленная охота неотступно и бесконечно пилить человека попреками, в то же время чувствуя к нему сильную привязанность, – это все такие черты, какие любят приписывать русскому человеку и сонм его порицателей, и партия его quasi-защитников. Последние видят здесь, конечно, величие духа, находят прототипы подобных характеров в Иване Грозном и Петре Великом и даже иногда, для параллели, тревожат суровые добродетели спартанцев и древних римлян. Мы признаемся, что почтенные защитники русского народа хватают немножко далеко. Восхищаться таким характером, как у Ефима, довольно трудно для человека, не лишенного сердца. Но одного нельзя отнять у него – силы; одного нельзя не признать, что опасно шутить с этой силой.
Посмотрите, в самом деле, каким страшным мщением отплатил он за оскорбление своего самолюбия Анне Акимовне! И какой фатальный, неотразимый характер имеет его мщение! Если б он просто задумал и холодно исполнил свой план – довести девушку до замужества с ним, – это была бы жалкая интрига, свидетельствующая только о черствости и злости его. Но тут дело шло не так: он сам полюбил ее, оттого-то он и обиделся так глубоко ее пренебрежением; добиваясь ее любви, он удовлетворял скорее потребности сердца, нежели голосу мести; он не мог хотеть загубить ее, – доказательство в том, что он не перенес ее гибели. Но какая-то сила подталкивает его на беспрестанные и жестокие оскорбления ее. Сила эта дика, неразумна, гибельна для него самого; но он не силен преодолеть ее влечение, потому что враждебные обстоятельства не дали в нем достаточно развиться гуманным и разумным требованиям природы. Победа над гордой женщиной доставила ему двойное наслаждение – и удовлетворение самолюбия, и достижение взаимности, которой он добивался. Но злоба его была сильнее любви: он был столько горд и самонадеян, что не мог слишком дорого ценить полученную взаимность женщины; а оскорбления, ею нанесенные, запали глубоко в его сердце, и он не мог забыть и простить их. Никакой покорностью, никаким пожертвованием нельзя было умилостивить его; ему самому было тяжело, его гнела какая-то тоска, он становился все мрачнее, по мере того как исполнял свое мщение над любимой женой; но остановиться не мог. В нем проснулось какое-то ненасытное, бесконечное желание унижать ее, вымещать над ней свою тоску и свое терпение, надругаться над нею, как будто в намерении восстановить таким образом свои собственные попранные права, свое достоинство, которое видел униженным и презренным. Все его поведение объясняется тем общим законом реакции, по которому крайность вызывает всегда другую крайность. Много лет прожил Ефим, не думая о своем [человеческом] достоинстве и вынося, по своему положению, множество унизительных условий. Но представился случай, где его достоинство особенно больно было поражено, – в столкновении с женщиной, которая ему нравилась и которой положение он считал равным своему; горечь обиды пробудила в нем сознание; а раз подумавши о своем унижении, почувствовав его, он со всей энергией своей натуры устремился к тому, чтобы поднять свое достоинство. Женитьба на Анне Акимовне была для него недостаточна; он не мог ясно сознавать всю великость того шага, который делала «купеческая дочка», выходя за него, мужика; для того чтобы вполне чувствовать свою победу, ему нужно было постоянное напоминание о ней, непрерывное упражнение прав победителя над своею жертвою. Сколько он ни обижал ее, сколько ни смирял, сколько ни издевался над нею, все ему казалось мало. Она покорно и молча сознала свое бессилие, признала его права над ней, а ему все казалось, что он еще недостаточно доказал и восстановил пред нею свое достоинство. Оттого его мщение было бессмысленно, невольно мучительно для него самого и ничем не могло удовлетвориться, сделалось условием жизни. Умирая, Ефим думал, вероятно, что он еще не довольно показал себя, и если бы его жена воскресла, нет сомнения, что он начал бы с ней опять ту же историю, при первом удобном случае. Ведь он было пришел в разум во время ее болезни – стал ее уговаривать нежными словами; но она отвернулась тогда от него, и он сделался еще суровее, еще беспощаднее.