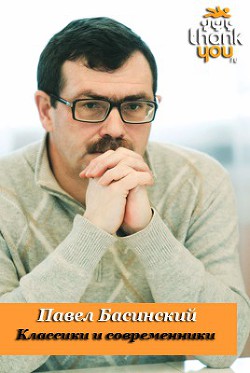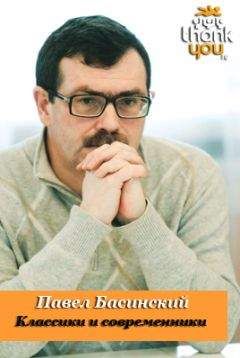2008
Трудный Трифонов. К 80-летию автора «Дома на набережной»
Иногда мне кажется, его просто не было.
Проза Трифонова — явление исключительное в литературе поздней советской эпохи. Недаром из его многочисленных последователей и подражателей, пожалуй, только Владимир Маканин вырос в самостоятельного писателя. Остальных (их легион) читать стыдно, на что язвительно обратил внимание в своих дневниках Юрий Нагибин еще при жизни Трифонова. Трифоновские «ученики» взяли его осторожность, холодноватость, «объективность» на вооружение как прием, превратив это в «достоинство» и тем самым прикрыв собственную духовную кастрированность и интеллектуальный пустоцвет. После Трифонова стало модно подробно описывать коммунальные кухни и сортиры, красно-зеленые абажуры и пыльные ряды книжных полок до потолка. Стало заманчиво избегать отчетливого авторского отношения к героям, моральных оценок, не говоря уже о «катарсисе» (душевном взрыве и внутреннем очищении благодаря ему), наличие которого стало почитаться дурным тоном, и уж совсем не говоря об просветительской миссии литературы, которую вообще-то никто не отменял.
Трифонов учил не этому. А чему? Пожалуй — ничему, кроме необходимости серьезной писательской «школы» и неустанного литературного труда. Трифонов — законченный, самодостаточный феномен. Всякая попытка его продолжения безнадежна, как продолжение тупика. Все, что в его прозе имеет непреходящую ценность, строжайше запрещено к вторичному использованию. Русская проза могла «выходить» из «Шинели» Гоголя, из «Мертвого дома» Достоевского, из «Окопов Сталинграда» Виктора Некрасова. Но трифоновский «Дом на набережной» не имеет выхода. На выезжающих оттуда лежит печать обреченности и смерти. А этому ни научиться, ни подражать нельзя. Перефразируя Данте: «Оставь надежду всяк отсюда выходящий».
Опять же модное когда-то определение «экзистенциализм», под которое Трифонова пытались подверстать его поклонники, подобно тому, как официозная советская критика подверстала его под термин «бытовая проза», ничего не объясняет в Трифонове по-существу. Классический «экзистенциализм» был продолжением нравственных исканий Достоевского и религиозного бунта Ницше. Но Трифонов не бунтовал и, пожалуй, даже не искал. Он взял на себя трудную и во многом неприятную миссию доведения советской романтической идеологии до ее логического тупика. Он был «авангарден» в том смысле, что, пребывая внутри коммунистической истории, творил как бы уже после нее. Возможно, именно этим, а не трусостью объясняется известная трифоновская «тяжесть» и недосказанность в живом общении с читательской аудиторией. От него ждали актуальных ответов на идеологические запросы времени, а ему было просто скучно ворошить остывшую золу.
«На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех». За красивостью этой фразы из самой интимной, автобиографической повести Трифонова «Отблеск костра» о репрессированном отце можно не заметить ее содержания. Конец истории. Конец исторических личностей. Только отблеск.
Это уже не «экзистенциализм». Это Шпенглер с его «Закатом Европы» (закат — те же отблески) и Тойнби с его «Концом истории». Здесь истоки трифоновского историзма, вне которого понять его невозможно.
Из его прозы нельзя делать выводы. Когда он сам пытался делать прямые выводы, получалось плохо. Великолепный роман «Нетерпение» о народовольцах, убивших Александра II, поражает одновременно изумительным знанием исторических реалий, глубочайшим психологизмом и ложностью социально-политического вывода. Итак, вина (или беда) народовольцев была в том, что были нетерпеливы? А Ленин был терпелив. Настолько терпелив, что дождался апреля 1917-го и вернулся из-за границы в Россию когда все возможные варианты российской власти себя исчерпали, и власть сама падала большевикам в руки. И что — скажем ему за это спасибо?
Истинная глубина трифоновской прозы начинается там, где он рисует человека не в начале и даже не в конце истории, но после нее («Дом на набережной», «Старик»). Когда человеку нет исторического оправдания, но остается тяжкая необходимость жизни в обществе, построенного на неправедных основаниях. И это касается не только посткоммунистической России, но и всего цивилизованного человечества. «Обмен», «Другая жизнь», «Время и место» — это страшные повести и романы. Глухой и немой Апокалипсис, где «речи за десять шагов не слышны» (Мандельштам). И последний его незаконченный роман называется страшно — «Исчезновение». Может быть, это действительно лучший вывод и выход для современного человека, как накануне Потопа?
Раскроем глаза. Повесть «Дом на набережной», сценической версии которой в театре на Таганке когда-то рукоплескала Москва, невероятно жестокая вещь! Для каждого из героев (порядочный профессор Ганчук, приспособленец Глебов, баловень судьбы Лева Шулепа и др.) есть ровно одинаковая сумма обвинительных и оправдательных заключений. Это либо сводит моральный пафос повести к абсолютному нулю, либо заставляет нас задуматься о последнем, Страшном Суде. Только бабушка Глебова Нила да погибший на фронте молодой гений Антон да безвременно скончавшаяся после умопомешательства жалостливая дочь Ганчука Соня имеют в себе моральную крепость, но именно их автор в своей повести уничтожает, причем смерть бабы Нилы становится спасением и освобождением Глебова от явной подлости.
Читать Трифонова трудно… Наслаждение от его безукоризненного писательского мастерства (это проза высочайшего европейского уровня!) не спасает от леденящего дыхания безнадежности. Отблески костра не греют, но зловеще подчеркивают окружающую человечество Ночь…
Читать Трифонова необходимо. Он, по выражению русского философа Н. Н. Страхова о Шопенгауэре, «закрывает последние пути для оптимизма». Того глупого и пошлого оптимизма, которым насыщена сегодняшняя мораль, отказавшаяся не столько от советского романтизма, сколько от вечных вопросов и духовного труда. Для этой морали Трифонова в самом деле просто нет.
Но, смею думать, мы выбираем Трифонова.
2005
Орден Виктора Курочкина
Однажды в редакции «толстого» журнала, куда я принес свою рецензию на повесть «Записки народного судьи Семена Бузыкина» ленинградского писателя Виктора Курочкина, мне было сказано:
— Курочкин? Ах, да… Это для эстетов.
Я не поверил своим ушам. Курочкин для эстетов! Кажется, не было писателя светлее и проще. К тому же фронтовик, гвардии лейтенант, автор повести «На войне как на войне», напечатанной в 60-е годы даже не в передовом «Новом мире», а в сермяжной «Молодой гвардии». И — правильно! Это был писатель не для «Нового мира», как, например, Юрий Казаков — почему-то есть такое чувство…
Что же, собственно, в нем эстетского?
Но затем я понял, что сотрудник журнала, может быть невольно, сказал нечто очень правильное. Положение Виктора Александровича Курочкина (1923–1976) в русской литературе ХХ века довольно странное. С одной стороны, оно как будто прочнее многих положений и репутаций, создаваемых и поддерживаемых мучительно и с натугой — от первой шумной публикации в каком-нибудь престижном журнале до солидного некролога в «Литературной газете». Курочкин не имел громкой славы ни при жизни, ни после нее. Она к нему не клеилась, как некоторые породы материалов не клеятся к другим породам. Поэтому ему нечего было терять. Кто же ценил его при жизни, ценит и теперь. А среди них не только простые читатели, но и признанные литературные авторитеты: например, Астафьев и Конецкий. Но опять же — без натуги, без надрыва, без «вот, мол, какого писателя русская земля потеряла, и где мы раньше-то были!» Просто есть люди, которые знают, что был на русской земле писатель Виктор Курочкин, который удостоился высшей награды: называться автором повести «На войне как на войне» — без лишних приписок.