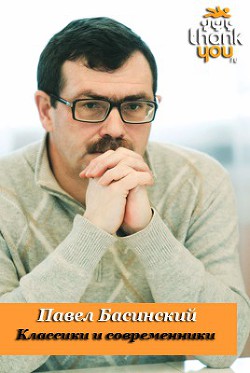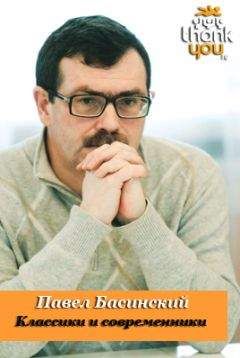Прекрасный поэт и прозаик Александр Яшин, не будучи даже близким знакомым Курочкина, прочитав «На войне как на войне», написал ему в письме:
«С моей точки зрения, Ваша книга станет в ряд лучших художественных произведений мировой литературы о войне, о человеке на войне. К тому же это очень русская книга. Я думаю, что не ошибаюсь… Читал я Вашу книгу и ликовал и смеялся и вытирал слезы. Все удивительно тонко, достоверно, изящно, умно. И все — свое, Ваше, я не почувствовал никаких влияний. А это очень дорого…
Ваша книга бьет по всем не умеющим писать, бесталанным, но поставленным у «руководства литературой», как же им не сопротивляться. К тому же и совести у этих людей нет. А ведь многие из них тоже о войне пишут. Смотрите на эти статьи, как на рекламу. (Речь шла о разгромных и издевательских статьях и рецензиях в тогдашних «Известиях» и «Литературной газете», где Курочкина били за отсутствие в его повести казенного героизма. Но эти слова и сейчас не потеряли смысла, ибо и сейчас есть стоящие у «руководства литературой» и создающие в ней иерархию ценностей, в которой для Курочкина места не нашлось — П. Б.) Если бы не они, и я бы, наверно, долго еще не имел счастья прочитать Вашу повесть… Саня Малешкин (главный герой «На войне как на войне» — П. Б.) имеет лишь одного предшественника — Петю Ростова (больше я пока не вспомнил). 27.Х.65.»
Такие письма дорогого стоят!
С другой стороны, отношение к Виктору Курочкину в среде «профессиональных» писателей и критиков иначе как холодным не назовешь. Написавший и о войне, и о деревне, и о городе, он не попал ни в один из поминальных списков советской литературы и все еще стоит в ней особняком, вне так или иначе созданной иерархии имен. Широкой публике он знаком больше по симпатичному фильму «На войне как на войне» ленинградского режиссера Трегубовича, где в главных ролях снялись Михаил Кононов и Олег Борисов.
Тем отраднее бывает случайно встретить в читательской и литераторской среде горячих поклонников Виктора Курочкина. Для меня они составляют некий орден, они как бы аукаются именем Курочкина в нынешней литературной смуте. Я почувствовал это на давнем вечере памяти Курочкина в Пушкинском Доме, организованном писателями Ленинграда. Вышел один детский писатель и сказал:
— «На войне как на войне» — классическая повесть о войне! Такая же, как «Дафнис и Хлоя» классическая повесть о любви.
И я подумал, что для постороннего, «чужого» слуха эти слова могли бы показаться странными, если не больше. Причем здесь «Дафнис и Хлоя»? Но для сидящих в зале они прозвучали естественно, потому что для человека, влюбленного в повесть Виктора Курочкина с ее реальнейшим и в то же время символическим героем Саней Малешкиным, нет ни малейшего зазора между этой вещью и остальными шедеврами мировой литературы. Эта повесть не просто единственная в своем роде, но и единственно возможная в этом роде. Она словно написана сама собою, без авторской воли. Читая ее, забываешь об авторе и историческом контексте. О ней можно сказать словами Вадима Кожинова (высоко оценившего Курочкина еще при жизни): это не литература, говорящая о жизни, но жизнь, говорящая о самой себе. Точно так же, как «Дафнис и Хлоя» это не литература, говорящая о любви, но любовь, говорящая о себе. Это и выразил в очень простой форме детский писатель, имени которого я не помню, но знаю, что мы с ним в какой-то степени родственники.
Вот и получается, что «Курочкин для эстетов». Что он создает возле своего имени какое-то магнетическое поле, которое притягивает одних и не трогает остальных. Он не претендует на место в привычной иерархии (школярской, официозной, рыночно-рейтинговой и т. п.), но существует в каком-то своем, одиноком пространстве, широко и приветливо открытом для всех, но почему-то недоступном для многих. Сколько раз я видел на лицах людей, прочитавших Курочкина по моей просьбе, вялое недоумение: о чем речь? что такого особенного в этой прозе? И сколько раз я видел сияющие лица, на которых светилась нечаянная радость: как? и я не знал этого писателя раньше!
Я понял одно: Курочкин, увы, не для всех. Это вовсе не значит, что люди, не понимающие Курочкина — плохие люди. Но они, вероятно, лишены музыкально-литературного слуха, вдобавок очень русского по своей природе. Они ищут в литературе «буквы» и «смыслы», а не стихию русской литературной речи, которая «сама в себе» есть чудо и творчество. Вот простенькое описание деревенского дома в повести «Наденька из Апалёва», которое неожиданно заставляет вспомнить о живописных шедеврах Саврасова, но главное — поражает чистотою музыкального звучания, где каждая фраза строго выверена на слух и не несет в себе ни одного лишнего слова, которое бы не работало на цельность картины и существовало вне единства музыкального ряда:
«Дом Кольцовых попятился на задворки, сломал ровный порядок села и стоит особняком: большой, старый и несуразный. Это две сдвинутые избы под одной крышей, с сенями посредине и громоздким мезонином. Сбоку дом похож на заброшенный дровяной склад, с фасада он глядит на мир как огромная больная птица. Нижние венцы сгнили, рассыпались, отчего дом вогнулся внутрь, словно подобрал живот, с боков же его, наоборот, разнесло, мезонин с крыши свесился и пристально смотрит на землю, как бы выбирает место, куда бы ему поудобней свалиться».
Виктор Курочкин — гениальный русский писатель. Под гениальностью я имею в виду, конечно, не масштаб творческой личности, но пушкинское понимание гения. Это отсутствие нарочитости, мучительности, то есть «декаданса» в широком смысле. Проза Курочкина тиха и беззлобна. Чиста, как родниковая вода, в которой даже самый опытный химик не обнаружит посторонних элементов. Казалось бы, незначительная деталь: он не использовал кавычки, полагая, что они унижают слово, выражают недоверие его собственному внутреннему смыслу. Вообще, всякое насилие над словом было ему чуждо. Он был органичен. Разбирать его прозу все равно, что анализировать… осенний лес.
Жизнь и творчество этого писателя всегда поражали меня какой-то незащищенностью, почти возмутительной в нашем столетии. Виктор Курочкин ничего, кроме творчества, после себя не оставил. Никакой легенды. О Курочкине хочется сказать банальными, но, на мой взгляд, исполненными глубоким смыслом словами: он жил и умер как простой советский человек. Он никогда не кичился своим писательством. «К чужой славе он относился без всяких эмоций», — писал о нем Виктор Конецкий. Любопытная черта: в поездах дальнего следования, знакомясь с пассажирами, он не решался назвать себя писателем, предпочитая играть роль обычного журналиста. Однажды расплакался прямо на улице перед афишей фильма по его повести: так поразили его собственные имя и фамилия на красочном плакате.
Биографические сведения о Курочкине крайне скудны. «Вдруг выяснилось, — пишет Виктор Конецкий, — что я ровным счетом ничего о биографии Курочкина долитературного периода не знаю».
О том же говорит и ленинградский прозаик Глеб Горышин: «Курочкин все-таки скрытный был человек. Чего он не любил, так это рассказывать о себе. Дневников не вел. Автобиографических книг не писал…»
Тем не менее, благодаря разысканиям вдовы, Галины Ефимовны Нестеровой-Курочкиной, любезно ознакомившей меня с некоторыми материалами, биография Виктора Курочкина все-таки существует.
Он родился 23 декабря 1923 года в деревне Кушниково Тверской губернии. В книге «Пушкин и Тверской край» доказано, что в прошлом Кушниково принадлежало А. П. Керн и ее наследникам. Но Курочкин, боготворивший Пушкина и все, что с ним связано, об этом не знал. Если бы знал, непременно как-то отразил в своем творчестве, насыщенном тверскими мотивами.
Жителей Кушникова звали «кушнятами». Дед Виктора, Тимофей Афанасьевич Курочкин, был очень религиозный и честолюбивый крестьянин. Он мечтал купить имение Осиповой-Вульф — Малинники недалеко от Кушникова. В Малинниках бывал наездами Пушкин; перед революцией они пришли в упадок у последнего хозяина. Ради этого Тимофей Афанасьевич отправился на заработки в Питер, предварительно уже договорившись о покупке имения. Работал на заводе «глухарем» — внутри паровозного котла, который клепался с двух сторон, так что сидевшие внутри рабочие постепенно глохли. Разорился, вложив все деньги в один из немецких банков, закрывшийся в начале мировой войны. Запил. Революцию не принял, но был доволен, по крайней мере, что «хоть имение никому не достанется». Имение, кстати, сгорело в гражданскую.