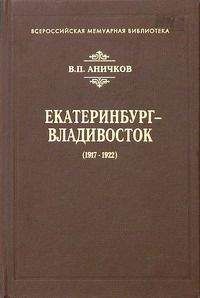Письмо, изменившее течение жизни Ш., исходило из кружка лейпцигских его поклонников: Кернера (отца поэта), его жены, урожденной Шток, сестры этой последней и Губера. Ш. отвечал откровенно, раскрывая трудность своего положения, и в результате возникших тогда переговоров появилась и чисто деловая сделка, согласно которой книготорговец Гешен, находившийся в денежных сношениях с Кернером, купил затеянный Ш. журнал «Талия». На полученный аванс Ш. и покинул Мангейм и в апреле 1785 г. прибыл в Лейпциг, крупный литературный и культурный центр, в котором первое время Ш. чувствовал себя немного как провинциал. Два года, следовавшие за этим, были проведены частью в Лейпциге и пригородном местечке Годисе, частью в Дрездене, где поселился Кернер, частью в Лошвице около Дрездена, где в маленьком домике в принадлежащем Кернеру винограднике Ш. закончил своего «Дон Карлоса». Время, проведенное в семье Кернера, было одним из счастливейших в жизни Ш. Написанное в то время стихотворение «Песнь радости» ярко оттеняет полное надежды настроение поэта, особенно если сопоставить эти стихи с элегическим «Примирением» (Resignation), возникшим всего только годом раньше. Полный сомнения возглас «и я, увы, в Аркадии родился! была мне радость суждена…» теперь также сменился непосредственным весельем шуточных пьес и карикатур, в изобилии дошедших до нас от этого времени жизни Ш. Мотив дружбы, дорогой привязчивой душе Ш., встречающийся и в ранних стихотворениях: «Элегия на смерть юноши» (1781) и «Дружба» (1781) и гораздо позже воспетый в «Поруке» (1798), этот мотив дружбы воплотился во время пребывания в Дрездене в те чарующие страницы «Дон Карлоса», когда перед нами встает благородная фигура маркиза Позы. Здесь оппозиционный республиканизм прежних творений Ш. принимает также уже положительную форму, впервые воплотившись в более продуманный общественно-политический идеал. В это время по приглашению своей приятельницы Шарлотты фон Кальб, покровительствовавшей Ш. еще в Мангейме, впервые посетил поэт и Веймар. Здесь он познакомился лично с Виландом и Гердером, был введен в гостиную герцогини Анны-Амалии и впервые почувствовал, что начинает занимать уже выдающееся положение в обществе. Пора тревожных и беспечных исканий теперь уже прошла. Под влиянием того спокойного и немного холодного служения искусству, какое чувствовалось в то время именно в Веймаре в кружке Гёте, Ш. начинает и на свое искусство смотреть с чисто художественной точки зрения. И его начинает притягивать классическое совершенство антика. В таком настроении из-под его пера выливаются «Боги Греции» и «Художники». Ш. стоит теперь на высоте своего поэтического призвания. В том же 1787 г., этом конечном моменте эпохи скитаний, встречает он во время нового посещения Бауербаха и Шарлотту фон Ленгефельд, с которой его знакомит его старый друг, сын г-жи фон Вольцоген. И женитьба на Шарлотте фон Ленгефельд, состоявшаяся годом позже, стала возможна и с точки зрения средств. Вместе с Веймаром в том же году Ш. посетил и Йену, где ему предстояло подвизаться в качестве профессора истории. И Ш. отдался всеми силами этому новому направлению своих занятий. Он окружает себя руководствами по истории и пишет сначала «Историю отпадения Нидерландов», этот глубоко драматический эпизод истории реформационного движения, а позднее он берется и за «Тридцатилетнюю войну», впоследствии послужившую источником его драматического вдохновения. И это время жизни Ш. было уже моментом перелома как его воззрений, так и его положения в обществе. Годы скитаний прекратились в том смысле, что он уже не дезертир и полубездомный поэт. Теперь он уже человек с положением, пользующийся литературной известностью, породнившийся со старым дворянским родом, сам носящий гражданский чин и таким образом как будто занявший место и в бюрократической иерархии. При таком изменении в его судьбе иначе стали смотреть на него и дома, и посещение Ш. вместе с женой Штутгарта, облегченное смертью герцога, было как бы победой гения над буржуазной осмотрительностью и деловитостью, которой пренебрег Ш. в молодости.
Правда, борьба с жизнью ради материальных средств далеко еще не кончилась. Ш. продолжает с большим или меньшим успехом издавать «Альманах Муз», «Исторические календари для дам» и проч. Ему приходится также согласиться на субсидию, предложенную ему герцогом Христианом Шлезвиг-Голштинским и графом Шиммельманом; затеянный им журнал «Horen» уже серьезное литературное предприятие, занимающее важное место в истории немецкой журналистики. Рядом с этим более благоприятным поворотом в жизни начинают изменяться и политические воззрения Ш. Пора отвлеченного республиканизма прошла. Если в 1789 г. он не мог не приветствовать французскую революцию, то с 1790 г. он начинает уже неодобрительно смотреть на события во Франции. Поэтому, когда, будучи йенским профессором, он в 1792 г. получил от министра Роланда предложенный ему французским народом патент на гражданство первой республики, это почетное звание пришло слишком поздно. Ш. уже усвоил себе немного олимпийски спокойное мировоззрение, бывшее в ходу в Веймаре. Он стоит уже на национально-государственной точке зрения. Его привлекает объективно философский взгляд на исторические события. Когда несколькими годами позже выйдет его «Песня о колоколе» (1799), он уже отзовется неодобрительно о почтившей его за его писательское направление французской революции.
Во время своего пребывания в Йене Ш. почти совершенно оставил поэзию, и рядом с историей он начинает заниматься философией и эстетикой. Это время дружбы с Фихте и Вильгельмом Гумбольдтом и усиленной переписки с Кернером о философии Канта. Еще раньше Ш. написал целый ряд трактатов: «О причинах наслаждения, доставляемого трагическими предметами», «О трагическом искусстве», «О патетическом» и проч.: в центре их стоял вопрос об отношениях нравственности и искусства. Теперь, после того как им были усвоены эстетические воззрения Канта, точка зрения Ш. значительно изменилась. В «Письмах об эстетическом воспитании» дело идет уже о положении эстетического сознания в общей системе духовной деятельности человека. Эстетическое сознание как бы заполняет, по мнению Ш., пропасть между миром свободы и миром необходимости, между нравственностью, призывающей свободно направлять не только свои поступки, но и явления жизни, и потребностями, определяемыми необходимостью. «Когда мы предаемся наслаждению истинной красотой, – пишет Ш., – мы в одинаковой степени владеем нашими деятельными и страдательными силами». И в этом отношении эстетическая деятельность человека подобна игре. Именно в игре человек осуществляет свою свободу в чувственных действиях, тут, с одной стороны, он свободен от потребностей, а с другой – не порывает связи с чувственным миром необходимости. Игра ставит человека выше чувственной жизни и в то же время не дает забыть о ней, как это бывает при отвлеченном мышлении. Оттого человек в своем высшем проявлении сказывается именно в игре. И «вот это высокое душевное равновесие и свобода духа, соединенные с силой и бодростью, – пишет Ш., – и дают то настроение, которое должно оставлять в нас художественное произведение». Искусство, таким образом, помогает нам справиться с подавляющим влиянием необходимости. В нем человек празднует свою свободу по отношению к природе. Отношение искусства к природе, однако, двоякое. В трактате о «Наивной и сентиментальной поэзии» Ш. предусматривает и потребность слиться с природой, не побеждать ее, а, напротив, быть побежденным. В таком настроении искусство будет наивным. Наивно было искусство греков, сама жизнь которых была эстетичной. Напротив, современное искусство может быть только сентиментально, т. е. в современном искусстве художник всегда противополагает себя природе и играет этим противоположением. Один Гёте сумел своим проникновенным объективизмом достигнуть античной гармонии с природой. И трактат «О наивной и сентиментальной поэзии» собственно и был направлен к тому, чтобы определить различие в понимании искусства обоих поэтов. Субъективизму кантианца Ш. противополагался объективизм Гёте. Оба поэта, хотя им и не случилось еще сблизиться, зорко следили друг за другом и не могли не чувствовать, что они как бы взаимно дополняют друг друга. Оба они бессознательно стремились друг к другу, и когда случай дал им возможность после одного заседания Йенского общества естествоиспытателей разговориться наедине, между ними, естественно, возникло самое живое общение.
Для Ш. близость с Гёте послужила новым толчком на жизненном и писательском поприще. Прежде всего, она отразилась возвращением к покинутой с 1789 г. поэзии. Рядом с продолжением журнала «Horen» с 1796 г. он выпускает «Альманах Муз», где появились «Поэзия жизни», «Власть песнопения», «Идеалы», «Идеалы и жизнь», «Гений» и рядом с ними ряд других стихотворений. В перечисленных стихотворениях Ш., однако, еще выражает поэтически те мысли, которые он развивал в своих теоретических трактатах. В «Немецкой Верности», в «Прогулке», в «Помпее и Геркулануме», напротив, чувствуется уже, что мыслитель стал отступать перед художником. И, действительно, в следующем. «Альманахе» на 1797 г. вместе с коротенькими эпиграммами (знаменитые «Ксения»), которыми Ш. отвечал на нападки критики, направленные против «Horen», он печатает свои прославленные баллады «Кубок», «Перчатка», «Ивиковы журавли». Возвращение к поэзии оказалось и последним усилием, достигшим высшего совершенства. Спокойное и счастливое настроение, сказавшееся в скоро появившейся «Песне о колоколе», способствовало новому напряжению энергии. Еще в 1791 г. задумывался Ш. над возможностью драматической обработки судьбы Валленштейна и, когда летом того же года он лечился в Карлсбаде, он собирал материал и посетил места, где сохранились воспоминания о великом полководце. Еще в 1796 г. его брало сомнение, возможна ли драма на подобную тему. Только совет Гёте заставил его решительно приняться за дело, и к осени 1798 г. «Лагерь Валленштейна» уже мог быть разыгран на веймарской сцене. За первой частью трилогии быстро последовали другие. Целиком «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна» были поставлены в апреле 1799 г., после того как «Пикколомини» был в том же году поставлен Ифландом и в Берлине. Так состоялось возвращение Ш. к драматическому искусству, с которого он начал свою писательскую деятельность. И теперь Ш. после долгих занятий философией отнесся более сознательно к своему замыслу. Трилогия о Валленштейне отражает размышления о той же антиномии между свободой и необходимостью, между сферой потребностей и разума, которая служит точкой отправления в «Письмах об эстетическом воспитании». Изучая древнегреческих трагиков, Ш. ясно сознавал, что им было легче вести действие к катастрофе. У них действием управлял рок. Для современного поэта воля героя и детерминизм явлений не так легко могут быть согласованы. Не удалось согласовать их и Ш., невольно прибегшему в своей трилогии к уже отброшенной теории вины героя. Валленштейн в сущности гибнет потому, что восстал на законного монарха. Созданное им самим войско не было свободно. Оно чувствовало свое подданство и императору. В следующих своих драмах: в «Марии Стюарт», поставленной в Веймаре в 1800 г., и в «Орлеанской Деве», поставленной в Лейпциге в 1801 г., Ш. обращается сначала к чисто психологическому замыслу и мастерски очерчивает столкновение этих двух противоположных натур: Марии Стюарт и королевы Елизаветы, а потом рисует трагическую судьбу героини, полной самоотверженной любви к родине и целиком отдавшейся своему порыву и тому, что ей кажется долгом. Жанна д'Арк истинно поэтическая натура в шиллеровском смысле: она родилась в сказочной пастушеской обстановке, ее влекут видения; она все еще ребенок, ей чужд чувственный мир, она стоит выше его. И когда в ней проснется женщина, тогда исчезнет и очарование. Ш. таким образом вложил и в эту свою героиню свои заветные думы о поэзии. Если «Орлеанская Дева», таким образом, глубоко Шиллеровское произведение, то она была в то же время, однако, и глубоко немецкой, почти национальной драмой, несмотря на то что героиня ее француженка. Увлечение этой драмой совпало с патриотическим воодушевлением, проснувшимся в те трудные времена, которые переживала тогда Германия. И национальное чувство давно было в сознании Ш. Вскоре к подобному же патриотическому мотиву в драматической обработке Ш. вернется и еще раз. Непосредственно вслед за «Орлеанской Девой» – этой романтической драмой, Ш., однако, ищет вдохновение в классически простом сюжете, в центре которого опять стоит вопрос о судьбе. Античный Эдип вновь дразнит воображение поэта, и он пишет «Мессинскую невесту» с хорами и геометрически правильно расположенным действием. В «Мессинской невесте» Ш. хотел дать чисто поэтическое произведение, как бы вовсе не допускающее интереса к сюжету. Здесь все дело в чисто артистических стремлениях, в самой теории драмы.