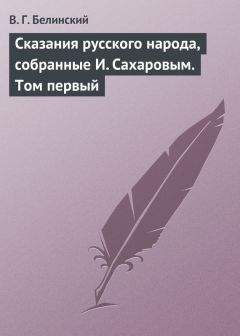Коротко и ясно: из всего этого г. Сахаров хочет вывести следствие, что Кирша Данилов отнюдь не был собирателем древних стихотворений. Прекрасно; но в чем спор и есть ли о чем тут спорить? Кирша Данилов – хорошо; не он, а другой, г. А., г. Б., г. В. – также хорошо: по крайней мере в обоих случаях стихотворения не делаются ни лучше, ни хуже. Впрочем, все причины стоят за Киршу Данилова, и ни одной против него; это ясно как день{118}. Во-первых, нужно же какое-нибудь общее имя для означения сборника древних стихотворений: зачем же выдумывать новое, когда уже глаза всей читающей публики пригляделись в печати к имени Кирши Данилова? Во-вторых, что имя его могло стоять на заглавном листе – это вернее, чем то, что его не было на нем, ибо это имя упоминается в тексте целой песни, сочиненной самим собирателем. Вот она:
А и не жаль мне-ко битого, грабленого,
А и того ли Ивана Сутырина,
Только жаль доброго молодца похмельного,
А того ли Кирилу Даниловича.
У похмельного доброго молодца буйна голова болит:
А вы, милы мои братцы, товарищи, друзья!
Вы купите винца, опохмельте молодца.
Хоть горько да жидко – давай еще;
Замените мою смерть животом своим:
Еще не в кое время пригожусь я вам.
Разумеется{119}, смешно было бы почитать Киршу Данилова сочинителем древних стихотворений; но кто же говорил или утверждал это? Все эти стихотворения неоспоримо древние. Начались они, вероятно, во времена татарщины, если не раньше: по крайней мере все богатыри Владимира Красна-солнышка беспрестанно сражаются в них с татарами. Потом каждый век и каждый певун или сказочник изменял их по-своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переиначивая старые. Но сильнейшему изменению они подверглись, вероятно, во времена единодержавия в России. И потому отнюдь не удивительно, что удалой казак Кирша Данилов, гуляка праздный{120}, не оставил их совершенно в том виде, как услышал от других. И он имел на это полное право: он был поэт в душе, что достаточно доказывается его страстию к поэзии и терпением положить на бумагу 60 больших стихотворений. Некоторые{121} из них могут принадлежать и самому ему, как выше выписанная нами песня: «А и не жаль мне-ко битого, грабленого»{122}. На Руси исстари заведено, что умный человек непременно горький пьяница: так или почти так справедливо заметил где-то Гоголь{123}. В следующей песне, отличающейся глубоким и размашистым чувством тоски и грустной ирониею, Кирша Данилов является{124} истинным поэтом русским, какой только возможен был на Руси до века Екатерины Великой:
А и горе, горе-гореваньице!
А и в горе жить – некручинну быть,
Нагому ходить – не стыдитися,
А и денег нету – перед деньгами,
Появилась гривна – перед злыми дни.
Не бывать плешатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхого,
Не откормить коня сухопарого,
Не утешити дитя без матери,
Не скроить атласу без мастера.
А горе, горе-гореваньице!
А и лыком горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны!
А я от горя – в темны леса,
А горе прежде век зашел;
А я от горя – в почестный пир —
А горе зашел, впереди сидит;
А я от горя – на царев кабак —
А горе встречает, уж пиво тащит.
Как я наг-то стал, насмеялся он.
Кирша Данилов жил в Сибири, как это видно из частых выражений: «а по-нашему, по-сибирскому» и из некоторых поэм, посвященных памяти подвигов завоевателя Сибири, Ермака. Очень вероятно, что в Сибири Кирша имел больше, чем где-нибудь, возможности собрать древние стихотворения: обыкновенно колонисты с особенною любовию и особенным старанием хранят памятники своей первобытной родины. Вообще, в Сибири и теперь еще сохранился во всей чистоте первобытный духовный тип старой Руси.
«Древние стихотворения», заключающиеся в сборнике Кирши Данилова, большею частию эпического содержания в сказочном роде. Есть большая разница между поэмою или рапсодом и между сказкою. В поэме поэт как бы уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему благоговение; сказочник – себе на уме: цель его – занять праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других. Отсюда происходит большая разница в тоне того и другого рода произведений: в первом важность, увлечение, иногда возвышающееся до пафоса, отсутствие иронии, а тем более – пошлых шуток; в основании второго всегда заметна задняя мысль, заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренно смеется над собственным рассказом. Это особенно относится к русским сказкам. Кроме «Слова о полку Игореве», из народных произведений у нас нет ни одной поэмы, которая не носила бы на себе сказочного характера. Русский человек любит небылицы как забаву в праздные минуты долгих зимних вечеров, но не подозревает в них поэзии. Ему странно и дико было бы узнать, что ученые бары списывают и печатают его россказни и побасенки не для шутки и смеха, а как что-то важное. Он отдает преимущество песне перед сказкою, говоря, что «песня – быль, а сказка – ложь». У него нет никакого предчувствия о близком сродстве вымысла с творчеством: вымысел для него все равно, что ложь, что вздор, что чепуха. А между тем «Древние стихотворения» не сказки собственно, но, как мы сказали, поэмы в сказочном роде. Может быть, первоначально они явились чисто эпическими отрывками, а потом уже, изменяясь со временем, получили свой сказочный характер; может быть также, что, вследствие варварского понятия о вымысле, и с самого начала явились они поэмами-сказками, в которых поэтический элемент был осилен прозою народного взгляда на поэзию. В книжке г. Сахарова{125} «Русские народные сказки» есть несколько сказок почти одинакового содержания и почти так же изложенных, как некоторые «Былины русских людей», помещенные им в «Сказаниях русского народа»{126}. Разница в том, что в сказках есть некоторые лишние против былин подробности, и в том, что первые напечатаны прозою, а вторые стихами. И мы думаем, что г. Сахаров сделал это не без основания: хотя и все наши сказки сложены какою-то мерного прозою, но этот метризм, если можно так выразиться, составляет в них побочное достоинство и часто нарушается местами, тогда как в поэмах метр, хотя и силлабический, и притом не всегда правильный, составляет их необходимую принадлежность. Сверх того, есть некоторая разница в манере, в замашке рассказа между сказкою и поэмою: первая объемлет собою всю жизнь богатыря, начинается его рождением, а оканчивается смертию; поэма, напротив, схватывает один какой-нибудь момент из жизни богатыря и силится создать из него нечто отдельное и цельное. И потому одна сказка заключает в себе два, три и более эпические рапсода, как, например, о Добрыне и об Илье Муромце. В тоне сказок больше простонародного, житейского, прозаического; в тоне поэм больше поэзии, полету, одушевления, хотя те и другие рассказывают часто об одном и том же предмете и очень сходно, нередко одними и теми же выражениями. Так как русский человек почитал сказку «пересыпаньем из пустого в порожнее», то он не только не гонялся за правдоподобием и естественностию, а еще как будто поставлял себе за непременную обязанность умышленно нарушать и искажать их до бессмыслицы. По его понятию, чем сказка неправдоподобнее и нелепее, тем лучше и занимательнее. Это перешло и в поэмы, которые преисполнены самыми резкими несообразностями. Мы сейчас дадим это увидеть самим читателям нашим, – для чего и перескажем им вкратце содержание всех поэм, находящихся в сборнике Кирши Данилова.
Нам удавалось слышать до крайности странное мнение, будто из наших сказочных поэм можно составить одну большую целую поэму, подобно тому, как будто бы из рапсодов была составлена «Илиада»{127}. Теперь уже и о происхождении «Илиады» многими оставлено такое мнение, как неосновательное; что же до наших рапсодов, то мысль склеить их в одну поэму есть злая насмешка над ними. Поэма требует единства мысли, а вследствие ее – гармонии в частях и целости в общем. Из содержания наших рапсодов мы увидим, что искать в них общей мысли – все равно, что ловить жемчужные раковины в реке Фонтанке. Они ничем не связаны между собою; содержание всех их одинаково, обильно словами, скудно делом, чуждо мысли. Поэзия к прозе содержится в них, как ложка меду к бочке дегтю. В них нет никакой последовательности, даже внешней; каждая из них – сама по себе, ни вытекает из предыдущей, ни заключает в себе начала последующей. Внешнее единство «Илиады» основано на гневе Ахиллеса против Агамемнона за пленницу Бризеиду; Ахиллес отказывается от боя, и вследствие этого эллины претерпевают страшные поражения от троян, и погибает Патрокл; тогда Ахилл мирится с Агамемноном, поражает торжествовавших троян и убийством Гектора выполняет свою клятву мщения за смерть Патрокла. Потому-то в «Илиаде» вторая песня следует за первою, а третья за второю, и так далее, от первой до 24-й включительно, не по цифрам, в начале их произвольно поставленным собирателем, а по внутреннему развитию хода событий. В наших же рапсодах нет общего события, нет одного героя. Хоть и наберется поэм двадцать, в которых упоминается имя великого князя Владимира Красна-солнышка, но он является в них внешним только героем: сам не действует ни в одной и везде только пирует да похаживает по гриднице светлой, расчесывая кудри черные. Что же касается до связи этих поэм, то некоторые из них точно должны бы следовать в книге одна за другою, чего, к сожалению, не сделал Калайдович, напечатавший их, вероятно, в таком порядке, в каком они находились в сборнике Кирши Данилова. Но это относится к очень немногим, так что не более трех могут составить одно, – и это одно всегда имеет своего героя, помимо Владимира, о котором во всех равно упоминается. Герои эти – богатыри, составлявшие двор Владимира. Они со всех сторон стекаются к нему на службу. Это очевидно отголосок старины, отражение давней были, в которой есть своя доля истины. Владимир не является в этих поэмах ни лицом действительным, ни характером определенным, а, напротив, какою-то мифическою полутенью, каким-то сказочным полуобразом, более именем, нежели человеком. Так-то поэзия всегда верна истории: чего не сохранила история, того не передаст и поэзия; а история не сохранила нам образа Владимира-язычника, поэзия же не дерзнула коснуться Владимира-христианина. Некоторые из богатырей Владимира переданы нам этою сказочною поэзиею, как-то: Алеша Попович с другом своим Екимом Ивановичем, Дунай, сын Иванович, Чурило Пленкович, Иван Гостиный сын, Добрыня Никитич, Поток Михайло Иванович, Илья Муромец, Михайло Казаринов, Дюк Степанович, Иван Годинович, Гордей Блудович, жена Ставра-боярина, Касьян Михайлович; некоторые только упоминаются по имени, как-то: Самсон Колыванович, Сухан Домантьевич, «Светогор-богатырь и Полкан другой», Семь братов Сбродовичей и два брата Хапиловы… Но пусть само дело говорит за себя. Начнем с Алеши Поповича.