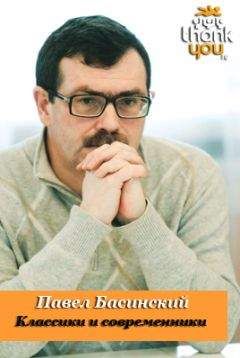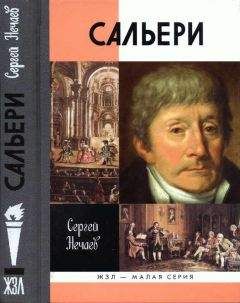Как «опасного злоумышленника» старика чуть не посадили за решетку. Но беспамятство для Анастаса имело и более серьезные последствия: когда после смерти старухи родной сын бросает его у чужих людей, а сам уезжает в город, старик начинает явственно понимать: он умирает. Память — последнее, что связывает Анастаса с этим миром. С ее утратой как бы прерывается связь с жизнью. Во время приступов старик по-детски не понимает: почему, имея свой дом и сад, он должен жить у соседей.
«На другой день с утра он опять околачивал палкой дощатые ставни. На третий день — тоже. И все чаще и подолгу пропадал в саду. К нему возвращалась жажда деятельности. Он вдруг принимался окапывать давно одичавший куст крыжовника и работал до тех пор, пока его взгляд случайно не останавливался на куче дров. Он бросал лопату и шел укладывать дрова. Но и это дело быстро забывал и начинал заделывать дупло старой липы».
Действия старика судорожны, беспорядочны и бесполезны. Но в них есть сокровенный смысл: работая в саду, старик с удивительным упорством отвоевывает у смерти новые и новые пространства памяти. В своем сознании, точнее, в подсознании он медленно продвигается назад: от смерти к рождению. Зачем это нужно, никто не может понять, но старику не смеют мешать, так как чувствуют, что есть нечто неотразимо верное именно в такой логике предсмертного поведения.
В повести Курочкина происходят странные метаморфозы. Написанная о смерти, вернее, об умирании, она развивается как бы обратным порядком: от темных тонов к светлым. Когда память старика надежно обосновывается в старом доме и саду, он неожиданно… молодеет.
«В то утро день начался, как и все предыдущие, с завтрака. Но в поведении Анастаса было что-то новое и странное. Он бодро встал, наскоро умылся и, в ожидании завтрака, суетливо расхаживал, нервно потирая руки. Когда сели за стол, Анастас с жадностью набросился на подогретый вчерашний суп и хлебал его обжигаясь.
— Куда это ты, дед, торопишься? — ехидно спросила Настя.
— Дела, Настенька, дела, — серьезно ответил Анастас».
Всего-то «дел» — поправить могилку жены да смастерить удобный столик для соседской девочки. Но не это главное! Чудесное омоложение старика означает гораздо большее: он готовится приступить к самому важному и ответственному делу жизни — смерти. Он бросает на это последний остаток сил, и начинается беспощадная, но невидимая работа, тяжелейший, но непонятный посторонним духовный путь, на который он тратит всю собранную в единый пучок энергию старческого организма. С величайшим трепетом Курочкин следит за каждой деталью этой последней крестьянской работы, понимая, что она и есть венец всей жизни, то, ради чего живет человек.
Возрождаясь в памяти, старик стремительно разрушается физически. Но зачем-то ему надо продлить свое физическое существование, что-то он внутри себя не доделал, не довершил.
«Теперь ему не хотелось принимать пищи. Но он ел, и ел много, потому как знал, что надо есть, и надеялся, что еда поможет ему. Настя с тревогой наблюдала, как тает старик. А таял он на глазах, словно воск. Резко выступили костлявые скулы, нос заострился, вытянулся, сник, как клюв у больной птицы, сухая челюсть отвисла и с трудом закрывала черный рот».
Наконец, он понимает, что успел, что какие-то две невидимые точки сошлись вместе:
«И вот оно всплыло. Ослепительный зимний день. Белое — снег, синее — небо. И вдруг между синим и белым пронеслось что-то ярко красное. Оно звенело и гикало.
— Ма-ма… — залепетал, захлебываясь от радости, маленький Анастас.
— Масленица, сынок, — сказала мать и кончиком платка вытерла сыну нос. Анастасу стало больно, и он заплакал. Так приоткрылась ему страница мира: удивительно яркая, свежая, полная очарования».
Волей к жизни пронизана и последняя, незавершенная вещь Курочкина — повесть «Двенадцать подвигов солдата» (глава «Железный дождь»). Пожалуй, это самое мощное, что написано в русской литературе о первых годах войны. Сцена рукопашной схватки, например, не имеет себе равной в военной литературе. В образе Богдана Сократилина намечен почти мифологический образ русского солдата, который мог бы встать рядом с Василием Теркиным — в прозе.
Как подлинный писатель, Курочкин умер на взлете. Его путь не оставляет тягостного впечатления исчерпанности, «исписанности» таланта, но вызывает невольную зависть к тому, что мог бы еще написать этот человек. И в этом он своеобразно повторил судьбу главного писателя в своей жизни — Пушкина, чей бюст он с какой-то иронической гордыней поставил в квартире рядом с собственным бюстом работы московского скульптора Федота Сучкова. На замечания друзей о нескромности такого соседства он не реагировал. И конечно был прав: каждый художник про себя знает о пределах скромности и нескромности; а Курочкин, как верно заметил Виктор Конецкий, «отлично знал себе цену! — и потому никогда никуда не торопился…»
Не будем и мы торопиться. Не будем пытаться втиснуть Курочкина на место громких, но незаслуженных репутаций, которыми перенасыщена современная литература. Оставим его для эстетов — простых русских людей, которые, собственно, и составляют этот странный клан, этот рыцарский орден — читателей Виктора Курочкина. Я это понял, когда побывал на его могиле. Он покоится на Комаровском кладбище недалеко от часто посещаемой могилы Ахматовой. Но как-то сбоку и в глубине. Над могилой растет березка, под которой заботливые ленинградские пионеры поместили табличку: «Эта березка посажена в память о писателе-фронтовике Викторе Курочкине, авторе прекрасной повести — «На войне как на войне»…»
И все. И не надо ничего больше. Эта табличка стоит намного дороже грандиозных надгробий и мемориалов. Это высшее, на что способна человеческая культура — стать культурой сердца и противостоять «бессердечной культуре», которая никогда не поймет ни Сани Малешкина, ни Наденьки из Апалёва, ни всего, что любил и за что сражался гвардии лейтенант, русский писатель Виктор Курочкин.
1997
«Возвращение Дмитрия Голубкова» — так следовало бы озаглавить эти заметки. Но что-то мешает. Нет никакой уверенности в том, что странный интерес к этому Божьей милостью человеку, внезапно и без всяких видимых причин вспыхнувший в минувшем году (три публикации в центральных журналах), не сменится забвением уже привычным. Есть и серьезнее сомнения: с уходом из жизни последнего человека, который знал Голубкова лично, его имя забудут вовсе. Почему нет? Это совсем не так невозможно, как может показаться умиленному взору людей, знавших и любивших Голубкова при жизни (а это — чуть не половина писателей-«шестидесятников» от Евгения Евтушенко до Вадима Кожинова). Голубков ничего (или почти ничего) не сделал для того, чтобы зацепиться в памяти новых поколений. Его вспомнят разве что по рассказу Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал» о несчастном самоубийце, невольным и анонимным героем которого он стал. В журнале «Согласие» это понимали и напечатали фрагмент из казаковского рассказа рядом с дневниками Голубкова — наивный редакционный жест, а между тем — против него нечего возразить: образ Голубкова, кажется, тает на глазах, как облако в небе; надо что-то делать, как-то его «закрепить», как-то замедлить это безжалостное вымывание памяти о человеке, самое присутствие которого в художественной жизни России второй половины ХХ века было отмечено какой-то печатью свыше.
И это не громкие слова. В Дмитрии Голубкове больше, нежели в ком-либо из его окружения, казалось, были налицо все элементы гения: талант, ясный ум, простодушие, безыскусность, сосредоточенность, уважение к авторитетам, равнодушие к легкой славе, душевное трудолюбие и, наконец, главное, без чего ни при каких условиях не может состояться русский писатель — врожденная совестливость, мучительным заложником которой он, в сущности, и оказался.
«Для Мити была роковой принадлежность прошлому столетью с его кодексом чести и тиранством совести», — пишет Владимир Леонович.
Нельзя без какого-то душевного трепета читать строчки из дневника Голубкова, в которых встает перед глазами его сосед по Абрамцево Юрий Казаков — совсем другой, чем он видится из своих волшебных рассказов — маленький, смущенный, виноватый, совершивший в отношении к Голубкову какое-то мелочное предательство. «Все, что думаю о нем, сказал ему — что душа скупая и пустая, полная лишь себялюбием и тщеславием, что настоящее его скверно, а будущее прямо зловеще, если не соберет опрятно, веничком, уцелевшие в душе крохи… Слушал задумчиво и растерянно».
Страшно почему-то не за Казакова, а за Голубкова. Страшно даже теперь, когда конец его известен: в ноябре 1972 года в пустом Абрамцевском доме покончил с собой выстрелом из ружья (патроны одолжил у Казакова). Страшно, потому что в такой нелепой, на первый взгляд, смерти (судя по воспоминаниям, Голубков был глубоко православным человеком) чувствуется жестокая логика и какая-то тяжелая поступь судьбы. Так должно было случиться — вот что пугает.