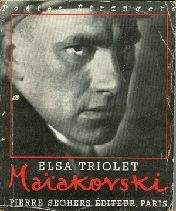Это был очень скучный человек. Там, где не было эстрады, аудитории, состоящей хотя бы из одного слушателя, там, где не было объективно заданного сценария, театрализованного сюжета отношений, — там разговаривать с ним было не о чем, разговаривать было не с кем. Рита Райт рассказывает, как однажды несколько вечеров подряд пыталась записывать за Маяковским все интересное, что он выскажет. Все вечера он играл в карты, ничего примечательного не сказал. «Все осталось в стихах», — поясняет она. Это верно в двояком смысле. В том, который имеет в виду Райт, но еще и в том, что ничего кроме ничего сверх в нем никогда не было. Его внутренний мир вполне соответствовал стихам любого периода и часто бывал беднее стихов, но никогда не богаче.
Вторая половина его творческой жизни, примерно с 23-го года, — это уже окончательно плоский, двумерный, а порой одномерный период, но это не значит, что вне стихов существовал какой-то объемный подлинник. Подлинника вообще не было.
Его космос и ранее был выстроен линейно, путем прямого увеличения размеров обыденных и повседневных предметов. Теперь же он окончательно замыкается на том, что соответствует ему по степени сложности. В его абсолютизации руководящих установок, стиля жизни и отношений, в его стремлении возвести в ранг вечности эту бренную мешанину понятий и слов нет ни насилия над собой, ни намеренного сужения кругозора. Это и есть мир Маяковского, никакого другого не существует. Его собственная, личная бездуховность окончательно, хочется сказать — органически — сливается с коллективной бездуховностью и пошлостью.
Пройдут года сегодняшних тягот,
летом коммуны согреет лета,
и счастье сластью огромных ягод
дозреет на красных октябрьских цветах.
Какому пародисту, какому Архангельскому, какому вообще постороннему человеку, не содержащему в себе этой пошлой сласти, содержащему хоть что-нибудь кроме нее, — по силам такие строки?
Тоскливая ограниченность его кругозора еще настойчивей, чем в прямых декларациях, бросается в глаза в его многочисленных в последнее время сатирах. Сатира, еще более, чем апологетика, лишена дистанции восприятия. «Я волком бы выгрыз бюрократизм…» Никого не минуют учреждения и чиновники, но люди обычно живут другим, а туда — попадают. Маяковский же этим и в этом живет. У него бюрократы и те, кто с ними борется, выступают как величины одного измерения и, в лучшем случае, равных порядков. В конце концов это приводит к тому, что Маяковский, борясь с чиновником, не убивает его, а, наоборот, утверждает.
Но нигде так не проявилась его ограниченность и отсутствие всякой духовной опоры, как в изобличении мещанства и быта.
Он объявляет быт своим главным врагом, он раздувает любую мелочь общежития до размеров национального бедствия. Весь былой пафос борца и трибуна, всю оставшуюся энергию разрушения он устремляет в эту узкую щель.
Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм канарейками не был побит.
Вот кто угрожает коммунизму — канарейки.
(Только не надо вспоминать о любви к животным. Это тема других, отдельных стихов, принадлежность другой маски. Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Впрочем, в Водопьяном у Лили Юрьевны есть и канарейка — подарок Маяковского.)
Этот страстный призыв: сверните головы! — прозвучал в 21-м году. Через восемь лет — та же тема, та же опасность и столь же актуальна. Но прибавился коллективный опыт. Оказалось, что лучше сворачивать головы не канарейкам, а их владельцам: «Изобретатель, даешь порошок универсальный, сразу убивающий клопов и обывателей».
Что же он сделал, обыватель Маяковского, чем он страшен и чем опасен? Из потока проклятий и общих фраз попытаемся извлечь его страшную вину, обрекающую его на неминуемую гибель, отдельно от канареек и вместе с клопами.
«Человек приспособился и осел… пережил революцию… завел абажуры и платьица…» Не борется вместе с «нищим Китаем», а, напротив, опасается собственных бурь. «Будучи очень в семействе добрым, так рассуждает лапчатый гусь: „Боже меня упаси от допра,[11] а от МОПра[12] — и сам упасусь.“»
Не правда ли, очень по-человечески рассуждает лапчатый гусь? Вот за то его и убей!
Не один Маяковский писал о мещанстве, было много разных писателей. И, конечно, король среди всех — Зощенко. Но какая бездна отделяет его от Маяковского!
Зощенковский обыватель показан так, что, кажется, ни одна деталь не потеряна, и в то же время чудесным образом сохранена огромная дистанция взгляда, непрерывная соотнесенность с миром. Человек как бы взвешен в мировом пространстве, оно окружает его со всех сторон, вбирает его в себя и противостоит ему. Сам он об этом не имеет понятия, тычась в свои примуса и калоши, но это знает про него автор и постоянно ощущает читатель. И от этого вселенского соотнесения обыватель Зощенко еще более ничтожен — но и значителен в своем ничтожестве, порой же — просто величествен. Разумеется, здесь и речи не может быть не только о призыве к уничтожению, но и о простом осуждении. Жизнь не осуждает и не прославляет зощенковского героя, она через него осуществляется.
Совершенно иначе у Маяковского. Его мещанин — мурло и гад, осужденный еще до стиха или пьесы (в полном соответствии с юридической практикой времени). Разговаривать с ним решительно не о чем, и интересен он лишь как вредный паразит, разновидность насекомого (недаром — «Клоп»), как одно из препятствий на пути настоящих людей все к тому же светлому завтра. Но и противостоит ему не Вселенная, а вот это самое светлое завтра — в виде каких-то больших машин, создающих материальную основу счастья, и зданий, тоже непременно больших: просторные палаты, белые халаты, светлые окна, гладкие полы — что-то вроде санатория для работников ЦК. Масштаб ничтожный, по сути — никакой. Осуждение примуса и гитары в пользу трактора и духового оркестра. Что такое трактор? Большой примус. Что такое оркестр? Большая гитара. Большое мещанство против малого мещанства — вот и вся официальная философия Маяковского.
5И здесь происходит неотвратимое, то, чего и следовало ожидать. Пафос обличения оборачивается автопародией, но уже и стилистической и смысловой.
Там и сям карикатуры на мещан и обывателей выглядят как шаржи на самого автора, лишь стоит сличить их с соседними строчками или с известными фактами жизни.
Вот портрет ненавистного мещанина, обвинительная речь Маяковского:
Давно канареек выкинул вон,
нечего на птицу тратиться.
С индустриализации завел граммофон
да канареечные абажуры и платьица.
А вот здесь же, буквально через несколько страниц — его защитительное выступление:
— Купил, — говорите; Конешно, да.
Купил, и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал, дохл да тих,
на разных кобылах-выдрах.
Теперь забензинено шесть лошадих
в моих четырех цилиндрах.
Здесь все то же самое, только увеличено. Вместо канареек — кобылы-выдры, вместо граммофона — серый «рено». Примус—трактор, гитара—оркестр…[13]
Да и Присыпкин-Баян в его «Клопе» — не раздвоенный ли это образ автора, с нормативными разговорами о загнивающем Западе и большой тягой загнивать так же? «Какими капитальными шагами мы идем по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия…»
Кто это говорит? Конечно, Баян, сатирический отрицательный тип. Но обнаружить мы это можем лишь по двум ориентирам, специально вставленным автором в его речь. В остальном это типичный монолог Маяковского. Я бы даже сказал, что «розы на данном отрезке» менее смешны и менее пошлы, чем «счастье сластью огромных ягод на красных октябрьских цветах».
И уж совсем без всяких изменений и вставок, с рюмкой в руке и селедкой на вилке, мог бы произнести Баян исполненные пафоса строки поэта: «Теперь, если пьете и если едите, на общий завод ли идем с обеда, мы знаем — пролетариат победитель и Ленин — организатор победы».
Поразительно, до какой степени ведущие пародийные персонажи Маяковского похожи на него самого — характером поведения, кругом интересов, стилем речи и стилем жизни. Бюрократ из бюрократов главначпупс Победоносиков — обнаруживает несомненные черты Маяковского, и не какие-то второстепенные, а самые важные. Тщеславие, доходящее до анекдота, абсолютизация высших чинов и рангов и всей атрибутики советской жизни, движение «к социализму по стопам Маркса и согласно предписаниям центра», мешанина из секса и партийной демагогии. Все сходится, вплоть до отношения к «акстарью» и излюбленных приемов риторики.