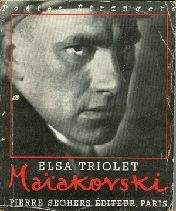Так вспоминает Николай Асеев, лучший друг и первый приближенный лефовских лет. Деликатное скольжение по паркету, вкрадчивая ходьба в носках и на цыпочках… Но в этом вкрадчивом, бесшумном скольжении Асеев то и дело помимо желания наталкивается на реальные обстоятельства и сразу же ставит в тупик читателя.
Что значит «не вытесняя и не обездоливая»? Значит, мог возникнуть и другой вариант, более подходящий к слову «кукушка»? И как слова «прожил творческую биографию» могут относиться к семье и к дому, к чужому или не чужому «гнезду»? Что же там было на самом деле, с кем он жил «творческую биографию», с Лилей Юрьевной или с Осипом Максимовичем? Или же семейные отношения ограничивались для него равным общением с ними обоими? Не похоже, чтоб это было так.
Если вдруг прокрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стеганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
Вот какое семейное гнездышко охранял и устраивал, как свое, Маяковский. И в предсмертной записке (к которой мы, конечно же, еще обратимся) он написал: «Моя семья — Лиля Брик», а не Лиля Юрьевна и Осип Максимович. Действительно ли Маяковский нежно и искренне дружил с Осипом Бриком или это были иные отношения, более сложные и запутанные, быть может, более деловые?
По форме этот наш вопрос — риторичен и уже содержит в себе ответ. Однако на деле он решается не так-то просто.
«Дорогой, дорогой Лилик!», «Милый, милый Осик!..», «Целуй его (Осю) очень…», «Мы» с Оськой по возможности ходим вместе и только и делаем, что разговариваем о тебе. (Тема — единственный человек на свете — Киса)…
В этих письмах, с их кокетливо-детскими интонациями, с дурашливым искажением слов, нежность Маяковского распределяется чуть ли не поровну. Осип Максимович ходит вусмерть зацелованный, причем Маяковский даже указывает куда: «Целую Оську в усы». Или еще лучше: «Целую Оську в» — а дальше многоточие. И лишь спустя какое-то время догадываешься, что рисунок справа продолжает фразу: что-то вроде губ с чем-то вроде усов…
Только ясные количественные указания дают возможность правильно распределить его любовь: «Целую 1000 раз тебя и 800 Оську». Все же Оську на 200 меньше…
Но все эти поцелуи не проясняют картины, а, наоборот, еще больше затуманивают. Потому что суровую дружбу соперников мы еще как-то можем себе представить, но нежная любовь любовника к мужу — это уже нечто непредставимое, это выше любых возможностей.
В небольшой книжечке для детей Лиля Юрьевна рассказывает, как в 20-м году они, с Бриком и Маяковским, поселились в огромной пустой квартире и, чтобы не отапливать много комнат, жили втроем в одной, самой маленькой. Я думаю, дети не только старшего, но и по меньшей мере среднего возраста не могли, читая, не задаваться вопросом, как же выглядело это тройное житье, ну хотя бы кто где спал, — тем более что Лиля Юрьевна в своем рассказе акцентирует внимание на ночном времени: как Маяковский встает с постели, открывает дверь, впускает щенка…
Повторим еще раз, что в подобных вопросах нет бестактности и подглядывания в замочную скважину. Маяковский сделал все возможное, чтобы самые интимные детали его жизни могли обсуждаться как общественные явления, как исторические события, как факты жизни страны. Скромные разговоры о лирическом герое неуместны, когда речь идет о Маяковском. Нет, это не герой поэмы, это сам автор, Владимир Владимирович, а это — его возлюбленная, Лиля Юрьевна, а рядом — муж ее, Осип Максимович. Он всегда рядом, даже если отсутствует…
2Злым демоном Маяковского называл его Луначарский. А еще либеральствующий наркомпрос видел в нем средневекового разбойничьего патера, заранее отпускающего своей лефовской шайке любые, самые страшные грехи… На всех диспутах, где умеренный Луначарский пытался защитить остатки искусства от банды воинствующих графоманов, он ощущал присутствие Осипа Брика, хотя тот был сугубо кабинетным человеком и предпочитал отсиживаться дома. Громы и молнии метал Маяковский, однако во всем, что касалось позиции, направленности, отношения к текущему моменту, Брик, как правило, бывал определяющим. Незаурядность его как идеолога и наставника вполне очевидна. Он был начитан, знал языки, очень точно чувствовал конъюнктуру и очень ловко умел ее использовать.
Главный тезис был — дискредитация искусства и замена его производством. Книгу должна заменить газета, на смену картине идет раскрашенный ситчик. Искусство — опиум для народа, столь же вредная выдумка, как и религия: «Надо ежедневно плевать на алтарь искусства». (Очевидно, что в той самой статье Левидова изложены основные идеи Брика.) При этом он сыпал марксистскими цитатами—эту литературу он знал в совершенстве, по крайней мере такое производил впечатление.
Его фамилия — Brick, — безусловно, значащая. Он был тем краеугольным кирпичом, на котором держалось здание Лефа и которым, при необходимости, мозжили головы всем врагам и отступникам. Его влияние на лефовцев было огромным, он умел увлечь каждого в отдельности, сам при этом оставаясь холодным и трезвым. Его раздвоенные водевильные усики невозмутимо возвышались над всеми страстями.
«Целое поколение изломанных людей!» — в ужасе восклицает художница Лавинская, тоже вроде бы жертва идеологии Брика и лефовского образа жизни. Страшную картину всеобщего растления рисует она в рассказе об этом обществе. Все лефовцы, по ее представлениям, делились на жертв и растлителей. Циничный врун и соблазнитель Брик, жестокий, фанатичный иезуит Третьяков, пошлый смердяковствующий Крученых…Ничего святого, никаких принципов, только конъюнктура и текущая выгода. Многие играли двойную игру. После полного распада Лефа в 30-м году, когда все остались у разбитых корыт, хитрый Асеев сказал Лавинской: «Вы, художники, были дураками. Надо было ломать чужое искусство, а не свое…»
Маяковского Лавинская причисляет к жертвам. Так ли это было На самом деле? По-видимому, и так и не так. Маяковский отчасти слушался Брика, отчасти делал вид, что слушается, и ломал он как раз не свое, а чужое искусство. Его талант, его слава, его авторитет, его, в конце концов, профессионализм, единственный в этой славной компании, — были очевидны всем и внутри Лефа, и, главное, за его пределами, вне стен квартиры в Водопьяном, в Гендриковом. Он слишком хорошо знал себе цену, чтобы дословно выполнять инструкции Брика и даже — чтоб дословно их повторять. Достаточно сравнить его собственные выступления со статьями и высказываниями Брика. Маяковский, при всем громыхании, не то чтобы мягче, но как-то скругленней, гибче. Брик — резок, однозначен, определенен, ему-то терять нечего.
«Пушкин не создатель школы, а только ее глава. Не будь Пушкина, „Евгений Онегин“ все равно был бы написан. Америка была бы открыта и без Колумба».
Кто это? Казалось бы, кто угодно, в том числе Маяковский. Звучит вполне по-нашему, по-лефовски, и нечто подобное повторялось едва ли не на каждой странице журнала. На самом деле именно Маяковский именно так сказать бы не мог. Слишком просто в эту стройную шизофреническую формулу подставляется и его дорогое имя, и заглавие любой из его поэм. Он был достаточно трезв и бдителен, чтобы, активно взаимодействуя с Бриком, гнуть свою персональную линию. Злой демон не столько соблазнял Маяковского, сколько вдохновлял его и питал.
Но Осип Брик был не только теоретиком, он был еще и писателем, сочинителем, и как раз его художественное творчество представляет для нас особый интерес. Разумеется, не в качестве предмета искусства, а в качестве особого документа, способного, например, подтвердить или опровергнуть Лавинскую, а также пролить некоторый свет на его отношения с Маяковским и Лилей Юрьевной. Нет, он пишет не документальную прозу, но, как человек абсолютно и бесповоротно бездарный, переносит впрямую в диалоги своих бумажных героев те «научные» схемы, согласно которым, по его представлениям, должна двигаться живая жизнь и которым он сам в этой жизни следует.
Герой его повести «Не попутчица», коммунист и начальник чего-то тов. Сандраров, влюбляется в прекрасную нэпманшу Велярскую. А его секретарша и жена тов. Бауэр… Впрочем: «Я не жена, тов. Тарк, — говорит она его сопернику по партийной лестнице. — У коммунистов нет жен. Есть сожительницы». Так вот, сожительница тов. Сандрарова тов. Бауэр возмущена предательством своего начальника, то есть мужа, то есть сожителя, и призывает его к порядку. А он, в свою очередь, возмущен ее отсталостью в вопросах морали и вынужден объяснять ей элементарные правила коммунистического образа жизни:
«Мы ничем друг с другом не связаны. Мы — коммунисты, не мещане, и никакие брачные драмы у нас, надеюсь, невозможны?»
«Никакой супружеской верности я от тебя не требую. Но делить тов. Сандрарова с какой-то там буржуазной шлюхой я не намерена.»