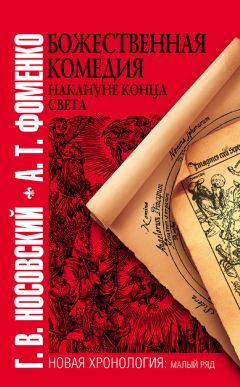Читая эту сцену, невольно спрашиваешь себя: как же могли наши критики вообразить себе, будто в лице Фролова автор хотел вывести идеал благородства? Самое предположение это кажется нам невероятным. Не ясно ли в самой первой сцене выражает Фролов полное отсутствие всяких понятий о чести и благородстве? Не очевидно ли является он перед нами Чичиковым, только без его сметливости? На него кричат: как ты смел сесть перед мной? А он смиренно начинает оправдываться: генерал, я не вижу… Ему кричат: молчать! – он опять: помилуйте, генерал, и дождался того, что генерал назвал его мальчишкой, грубияном, невежей и сказал, что его место у косяка. И поделом ему! так и следует отделывать этих пошленьких фразеров, которые толкуют – туда же! – о чести и благородстве, а сами не могут с первого раза поддержать себя и своим подловатым тоном сами напрашиваются, чтоб их выругали. И об этом человеке будто бы серьезно можно было сказать, что он – горячая голова! Да будь он горячая голова и имей хотя малейшее понятие о чести, так после первого же восклицания генерала прочитал бы ему строжайшее назидание и откланялся бы, да уж потом бы и не явился без крайней необходимости. А он только повторяет себе: генерал, генерал… И еще нужно заметить, что генерал этот служил, после военной, в гражданской службе, и, следовательно, из генералов сделался уже действительным статским советником. Но Фролову это ничего: он иначе не называет Славомирского, как генерал, и мы уверены, что он только по крайней своей глупости не рассказывает этому генералу, подобно Чичикову, – что он пишет историю о генералах, вообще и в особенности. Будь Фролов человеком, хоть немножко понимающим права человеческой личности, его бы возмутила выходка Славомирского до такой степени, что комедии продолжаться не было бы уже никакой возможности. Тут конец, обрыв, дальше не может быть ничего общего между этим изумительным генералом и благородным человеком, которого он так оскорбил. Но дело в том, что Фролов не благородный человек, а Чичиков, тем более отвратительный, что он есть Чичиков по своей гаденькой натуре, бескорыстный и бессознательный. Чем, вы думаете, кончается сцена между им и Славомирским? А вот чем. Вбегает Наденька, дочь Славомирского, и оказывается, что Фролов есть милый Андрей Николаич, которого она полюбила в то время, как гостила в губернском городе у своей тетушки Кустодиевской. Славомирскому делается совестно, и он просит извинения у Фролова следующим образом: «Ну, извини, извиии старика… Я ведь не знал, что вы там знакомы». Вы думаете, по крайней мере теперь Фролов вскипит благородным негодованием и прочтет генералу нотацию: «Во-первых, дескать, я не смею поддерживать той фамильярности, на которую вы меня вызываете, говоря мне: ты. Во-вторых, дескать, позвольте вам заметить, что мое знакомство с вашей дочерью к делу не относится. Знали вы или не знали, что я с ней знаком, все-таки вам бесноваться не следовало. Мне, дескать, лично не нужна ваша вежливость, но меня возмущают ваши дикие понятия, и если вы извиняетесь передо мной только потому, что ваша дочь меня знает, то я не могу примириться с вами, не могу простить вашей дерзости» и т. д. Но Фролов не из таковских. Он отвечает: «Я сам, генерал, виноват, погорячился немного!» О милейший Павел Иванович Чичиков! Отчего же это вы так поглупели? Верно, новейшие фразы о чести и добродетели сбили вас с толку? Скажите, пожалуйста, какая жалость!.. Вот что значит попасть не в свою тарелку, взяться не за свое дело. Прежде мы по крайней мере видели, что у вас, добрейший Павел Иванович, цель есть высокая; мы понимали, что вы собственным достоинством для этой цели жертвовали. Не мудрено поэтому, что вы не могли понять, как мог оскорбиться Тентетников тем, что генерал стал говорить ему: ты. Но зачем же теперь-то вы унижаетесь? Кажется, ведь Фролов не собирается покупать мертвых душ у Славомирского; зачем же он в продолжение всей комедии позволяет этому невеже говорить себе: ты, братец, и любезный?.. Может быть, потому, что он хочет купить у Славомирского одну живую душу – Наденьку? Но нет, он говорит, что посвятил себя на пользу общую и для этого всякие жертвы делает… тут не может быть любовного расчета. Просто-напросто натуришка у него такая дрянная, у него есть кой-какие затверженные понятия, но и те представляются ему как-то смутно. Он, например, понимает отчасти, что генерал поступил невежливо, но как он это понимает? «Ведь, говорит, если бы я к вам, генерал, пришел просто, как дворянин к дворянину, вы бы, конечно, не указали мне место у притолоки?» Видите, – его соображение вертится вот на чем: того, что сделали со мной, с дворянином не сделали бы, – значит, это оскорбительно. Другого понятия о благородстве, независимо от дворянского звания, Фролов не имеет. По его мнению, с чиновником, купцом, лекарем – генерал Славомирский имел полное право разыграть подобную сцену, которая, в сущности, не может быть допущена даже порядочным наемным лакеем. Фролов не понимает этого, и потому на него не производит особенного впечатления брань Славомирского. На вопрос Наденьки, за что отец ее на него рассердился, он преспокойно отвечает: «За то, что я сел без его приглашения». А она замечает: «Он все с своей службой!» Хороши и ее-то понятия: она видит тут службу!! Сейчас видно, что воспитана своим папенькой…
Извинившись перед генералом, что выслушал его брань, Фролов начинает жаловаться на тягость своей должности. «Со мной, говорит, нагло обращаются». По нашему мнению, эта сцена великолепно может быть разыграна на сцене; она, может статься, затмит собою рассказ Расплюева о том, как его отделали до бесчувствия…[7] С одной стороны, конечно, и жалко его: все-таки же ведь ему больно, бедняку… Но личность его так пошла, положение его так глупо, что нельзя над ним не смеяться. Так и Фролов. У него нет даже настолько такту, чтобы понять всю пошлость, даже гадость жалоб на то положение, которое он сам выбрал, и выбрал, как говорит, для общей пользы. Вообразите, что человек приходит на пожар с тем, чтобы спасти кого-нибудь из пламени, и, в ожидании случая выказать на деле свое геройство, прославляет перед всеми свою решимость, горько жалуясь в то же время на все неудобства, которые его ожидают. «Близ огня очень жарко, – умиленно говорит он, – можно опалить лицо, платье испортить, обломиться на обгорелом бревне… можно совсем сгореть самому… Ужасное положение! Но что делать? Я решаюсь все это вытерпеть для пользы человечества». Совершенно в этом смысле говорит Фролов о своих расплюевских огорчениях. «Мы, говорит, должны выносить глубокое оскорбление, тяжкую печаль, а может быть, и более едкое чувство, выходя из общества людей, с которыми нам так часто приходится иметь дело и которые привыкли обращаться с нами так нагло». В ответ на эти забавные жалобы зрители, разумеется, хохочут, вспоминая первую сцену, которая так ясно показывает, чем вызывает г. Фролов наглости, которые ему делают. Но генерал, выдерживая свой характер, замечает Фролову, что он занесся. Чтобы оправдать свои слова пред генералом, так любезно его встретившим, г. Фролов рассказывает случай, бывший с ним и состоявший в следующем:
ФРОЛОВ. Не назову вам где, неделю назад я был у помещика, у одного, впрочем, из первых в уезде и по состоянию и по положению в обществе. Заметьте, генерал, что я к нему поехал не по делу, а просто потому, что меня все уверили, что всякий вновь назначаемый становой пристав и даже исправник должен сделать визит этому барину. Для чего уж это – не понимаю, но говорят – принято так. Я к нему приехал часа в два и ие знал, что у него в этот день обедают несколько человек. Он меня принял в саду. Был по возможности любезен, проговорил со мной с полчаса и, полагаю, успел заметить, что я получил некоторое образование, по крайней мере настолько, чтоб не напиться с его старостой, как вы, генерал, рассказывали о моем предместнике, и не плясать перед окнами. Но представьте же себе мое положение: когда начали приезжать гости, оставил меня в саду, вдвоем с своим приказчиком, с которым он толковал, когда я пришел к нему, и приказчик этот предложил мне, впрочем, от имени господина, отобедать у него в конторе, потому, дескать, что у барина гости!
Выслушавши эту историю, Славомирский, тот самый Славомирский, который так хорошо зарекомендовал себя перед зрителями относительно своей вежливости, отвечает: «Ну, это невежа! Это – что говорить – есть и из нас всякие. Нет, у меня, братец, ешь сколько хочешь, милости просим, а дисциплину люблю – не погневайся». Фролов оставляет без внимания это милое замечание; но на вопрос Наденьки: «Что же вы, Андрей Николаич?» – отвечает с гордым сознанием собственного достоинства: «Натурально, уехал. Не идти же мне было, в самом деле, в контору».