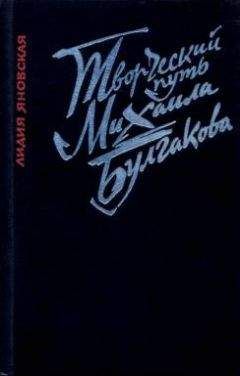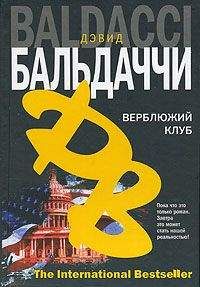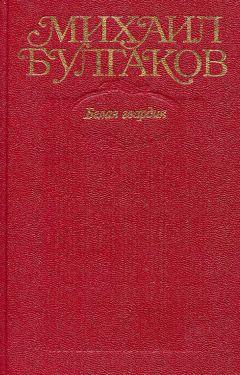На книге значилось: «Печатается с разрешения совета Киевской духовной академии». И был скандал. Был указ Святейшего Синода — «по возникшему вследствие одобрения советом Киевской духовной академии к напечатанию сочинения профессора той же академии Петрова под заглавием «Очерки украинской литературы» вопросу», — предлагавший впредь духовным академиям рассматривать, разрешать и издавать только те сочинения, которые непосредственно к их компетенции относятся, а именно: богословские сборники, диссертации и духовные журналы.
Н. И. Петров от увлечения своего не отказался, но снова ушел в век XVII и век XVIII (в 1911 году вышла его книга «Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков», 532 стр.). Чтобы оценить его упорство, стоит вспомнить, что в те годы самые слова «украинский язык» цензура стремилась изгнать из обращения, заменив их выражением «малороссийское наречие», а разрешение на издание какой-нибудь книги на украинском языке неуклонно снабжалось формулой: «Может быть дозволено к напечатанию под условием применения к малороссийскому тексту правил правописания русского языка».[7]
По-видимому, кроме дружеских отношений существовала и духовная близость между профессором Петровым и его бывшим студентом, а потом коллегой Афанасием Ивановичем Булгаковым. Эта мысль возникает, когда просматриваешь в архивах киевской цензуры, в которой А. И. Булгаков служил, составленные им бумаги и наталкиваешься на описки у этого очень дисциплинированного человека.
Вот, аннотируя присланную в цензуру украинскую книжку, он употребляет недозволенный эпитет — «украинский)» — который тут же, не дописав, вычеркивает. Но, значит, про себя он этот народ и этот язык называл украинским — так, как назывались книги Н. И. Петрова, посвященные украинской литературе. Или на поступивший в цензуру совершенно четкий официальный запрос: «На каком славянском нарeчии изложен текст брошюры?» — отвечает неожиданно не по форме: «Этот листок написан на малорусском языке».[8]
Вероятно, с именем Николая Ивановича Петрова следует связать и тот факт, что Михаил Булгаков, его крестник, и хорошо знал и любил стихию устной украинской народной речи (это видно по языку романа «Белая гвардия», по обилию и безошибочности украинизмов в романе). Факт, тем более заслуживающий внимания, что в среде, к которой Булгаковы принадлежали по своему общественному положению, украинским языком, как правило, не интересовались, не уважали его и, смею уверить, не знали.
* * *
В уже цитированном очерке «Киев-город» Михаил Булгаков писал: «Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история…» Но история наступала исподволь. Она была рядом — до поры неслышимая, неузнанная, неосознаваемая. И дыхание ее уже задевало легкие занавески детства.
Осенью 1900 года Михаил Булгаков поступил в приготовительный класс Второй киевской гимназии. В 1901-м перешел в первый класс и одновременно — в Первую, «Александровскую» гимназию, названную так в честь Александра I, некогда пожаловавшего этой гимназии особый статут. В Александровской гимназии Булгакову предстояло учиться восемь лет и потом описать ее в «Белой гвардии» и ввести на сцену в пьесе «Дни Турбиных».
Здания обеих гимназий почти рядом — они сохранились на бывшем Бибиковском бульваре, теперь бульваре Шевченко, дом № 14 и дом № 10. Из окон обеих был виден университет. «И вечный маяк впереди — университет…»
Все годы учения гимназиста Булгакова то глухо рокотал, то яростно кипел университет. В январе 1901 года 183 студента, участники сходки, были из университета исключены и отданы в солдаты. В. И. Ленин в «Искре» назвал этот факт «пощечиной русскому общественному мнению, симпатии которого к студенчеству очень хорошо известны правительству».[9]
Дома горела зеленая лампа, темная фигура отца горбилась за столом, и по крайней мере однажды — в июне 1900 года — в круге света лежал «Коммунистический манифест».
Отец, как я уже говорила, служил в цензуре. Учреждение называлось: Канцелярия киевского отдельного цензора. Должность: исполняющий обязанности цензора по иностранной цензуре, В обязанности А. И. входило просматривать поступавшие в цензуру книги на французском, немецком и английском. В том числе — присылавшиеся из жандармского управления. На сопроводительном письме стоял гриф: «Секретно», иногда: «Арестантское». Это означало, что книги изъяты при обыске и аресте.
«Манифест» во французском переводе пришел к А. И. Булгакову именно таким путем. С вопросом, не относится ли эта «статья» по своему содержанию к произведениям, «предусмотренным» определенной статьей закона, и с требованием «сообщить» ее краткое содержание. Содержание А. И. изложил, может быть, несколько наивно, но добросовестно, мне кажется, даже с увлечением, отметив и то, что «цель коммунизма» — «уничтожение эксплоатации одного человека другим, одного народа другим», и то, что «цели коммунизма могут быть достигнуты только насильственным переворотом всего существующего общественного порядка, к ниспровержению которого и призываются соединенные силы пролетариев всех стран». Ни единого выпада против тезисов «Манифеста» не допустил. А по поводу того, не подпадает ли издание под указанную статью закона, уклончиво ответил, что этот вопрос может быть решен по суду…
…В доме № 9 по Кудрявскому переулку жили с 1895 года примерно по 1903 год. Первая дата точна: сохранился полицейский штемпель прописки — 20 августа 1895 года — на удостоверении («виде на жительство») А. И. Булгакова. Вторая дата более приблизительна — она взята из адресного справочника «Весь Киев» за 1903 год. Но справочники эти обычно составлялись заблаговременно, в конце предшествующего года, данные их иногда устаревали, и, может быть, в конце 1903 года Булгаковы уже съехали с этой квартиры. А если съехали, то, надо думать, сняли квартиру в доме напротив — в большом, четырехэтажном, многоквартирном доме № 10, ибо справочники за 1904 год их адрес указывают уже так: Кудрявский переулок, 10.
Но так или иначе, в октябре 1903 года Булгаковы жили в Кудрявском переулке, в доме № 9 или доме № 10, и гимназист третьего класса Михаил Булгаков, полагаю, не мог не заметить, что в переулке появился шпик. Переулок пустынен, подворотни небольших домов обычно закрыты, магазинов на этой улице нет — укрыться негде. И маячит одинокая фигура — под дождем и редкими порывами первого октябрьского снега, не теряя из виду единственный подъезд дома № 10 и вызывая любопытство липнущих к оконным стеклам горничных.
А может быть, двенадцатилетнему гимназисту попадалась навстречу и молодая женщина, за которой была установлена эта слежка, — быстрая, небольшого роста, немного скуластая («…лицо круглое, нос, рот и уши обыкновенные… в черной с проломом шляпе, черной кофточке и такой же юбке», — фиксировал филер). Она смеялась над филером, терпеливо водя его за собой в кондитерскую или булочную и решительно исчезая, если ей надо было отправиться по более важным делам.
В доме № 10 по Кудрявскому переулку во второй половине октября 1903 года жила Мария Ильинична Ульянова, и вместе с ней, прежде чем переехать на другой конец города, на Лабораторную улицу, жили ее мать, Мария Александровна Ульянова, и сестра Анна Ильинична. Филеров в переулке иногда собиралось двое или трое. Это когда вечером приходили Дмитрий Ульянов с женой, приводя за собой свой «хвост».[10]
Революция уже осеняла Россию своим крылом, и огненный отблеск ее ложился даже на этот заселенный профессорами духовной академии переулок…
А впрочем, впрочем, может быть, Булгаков был еще мал и, занятый своими мальчишечьими делами, драками и уроками, играми и отметками, впервые приоткрывавшейся ему великой литературой и великой музыкой, ничего не знал ни о событиях в университете, ни о служебных занятиях отца и шпика в переулке, может быть, не заметил. Две недели по утрам появлялся шпик, а потом исчез бесследно…
Надежно, как крепость, стояло величественное здание гимназии на бульваре, охраняемое двумя рядами огромных, еще первого поколения, тополей, и, может быть, это был его мир — тишина коридоров во время занятий, грохот большой перемены, латынь и словесность, не дававшаяся математика…
…Директором Александровской гимназии в булгаковские времена был Евгений Адрианович Бессмертный, «пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке. Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться». (Этот портрет Е. А. Бессмертного оставил учившийся в той же гимназии Константин Паустовский — в своей «Повести о жизни». И хотя Паустовский не мемуарист, а художник, на свое воображение полагающийся охотнее, чем на память, мне кажется, что портрет директора Бессмертного верен.)