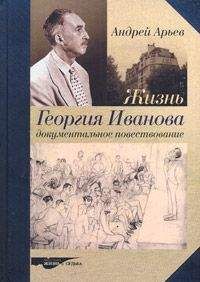От самого поэта можно было услышать признания не менее откровенные: «Сам я <…> неврастенический лентяй, проживший всю жизнь ничего не делая и ни о чем не заботясь…»
Роману Гулю он однажды написал и еще хлеще — о своей «неприспособленности к умственному труду».
И ему же чуть позже: «Царя в голове не имеется. <…> Вообще я в сущности способен писать только стихи. Они выскакивают сами. Но потом начинается возня с отдельными словами. Удовольствия от писания вообще не испытываю ни „до", ни „после"».
Ясно, что подобные откровения простака совсем не просты. Между строк тут написано: поэтом я быть не тщусь, я «богов орган живой» и не писать стихов не могу — они диктуются свыше.
Случай Георгия Иванова говорит не о патологии, а о романтической русской хандре, презрении ко всем земным благам и целям. Определяемым, между тем, изначальным наличием благ — и немалых.
«Я пришла сюда, бездельница…» — написала Анна Ахматова в царскосельских стихах 1911 года. И напечатала их в журнале с превосходным для подобной декларации названием: «Новая жизнь».
Заостряя тему, осмелимся произнести: и вся культура «серебряного века» выросла из одного грандиозного метафизического безделья. Из «тайномудрого безделья», по слову Михаила Кузмина. Не потому ли всем ее адептам «мешал писать», по изумительно томному ощущению Блока, Лев Толстой, апологет груда? И не потому ли так холоден оставался к ним практикующий врач Чехов? Дело тут не в трудолюбии того или иного автора (Брюсова, например, справедливо названного Цветаевой «героем труда»), дело в головокружительной попытке творчества из ничего, в стремлении к целям, лежащим за границами человеческого опыта.
Изнурившая императорский дом двенадцатилетняя канитель — с 1905 по 1917 год, — пробел между двумя историческими эпохами, заполнен, может быть, наиболее загадочным образованием русской культуры, получившим наименование «серебряный век».
От мнений «высшего света» он уже не зависел, а домашняя простота вкусов Николая II и его близких ему была и подавно чужда.
В одном из описаний Гатчинского дворца (в 1910-е годы его занимали великие князья) рассказывается, что все его внутреннее замечательное убранство было практически уничтожено: ампирные гарнитуры свалены в чуланы, ореховая мебель закрашена белой краской (под «модерн»), а на стенах жилых комнат висели картинки, вырезанные из «Огонька»!
Возможно, это крайний случай. Но это та «достоевская» крайность, что слишком ясно дает знать о типическом.
В годы последнего царствования культура перестала быть заинтересованной во власти, оказалась свободной от нее, свободной от сотрудничества с ней. Ее неуправляемый взлет чреват был страшным понижением авторитета власти, до Николая II в России традиционно высокого.
Культура «серебряного века», признавая демократизацию имманентно (и воспользовавшись ею в полном объеме), трансцендентно против «нового порядка» сразу же и взбунтовалась, начала создавать еще более замкнутую, чем в недавние времена, систему духовных ценностей искусства — искусства, хотя и не желающего уходить от демократии, так зато устраняющегося в ее рассеянном свете от жизни в целом, от простоты и теплоты органического бытия. Возникает новое — и мучительное — элитарное сознание, попытка культурного творчества, отбрасывающего установления реальной жизни с ее реальным иерархическим строем ради ценностей неосязаемых, зато «реальнейших».
Культура «серебряного века» антиномична по природе: борясь за свою свободу и всячески поддерживая свободы гражданские, культура эта также борется за свой эзотеризм, а тем самым за возможность быть репрессивной по отношению к профанному окружению. Она и приобретает это репрессивное (в духовном, разумеется, плане) элитарное качество, следствие ее изначальной революционности. Что и заставляет ее вновь оказаться в оппозиции к внешнему миру, как только сам этот мир становится репрессивным, то есть восстанавливает (в России — с приходом к власти большевиков) иерархическую, подавляющую свободу структуру общества. Подчиниться ей или ее принять — значило погибнуть.
Такие люди, как Блок, любили гибель «искони», потому что мыслили себя последними в ряду . Слишком поздно они увидели: большевики считают последними не себя, а других.
Очень важно уловить достаточно обособленный, сепаратный характер существования культуры, последним поэтом которой мыслил себя в эмиграции Георгий Иванов.
Повторю: являясь детищем общемирового процесса демократизации и признавая в социальном плане естественную необходимость и неизбежность этого процесса, в духовном отношении культура «серебряного века» противилась ему.
«Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, — писал Федор Степун, — культура жила своей интимной аристократической жизнью…»
Теоретически и символизм, и акмеизм, и футуризм создавали новую, захваченную бытием модель жизни—культуры, чаяли, по словам Вячеслава Иванова, «связи свободного соподчинения» во всех родах искусств, воплощения мифа как осуществленного «Fiat» — «Да будет!..».
Трагический парадокс этой культуры в том, что она же свидетельствовала о погружении века во тьму. Все нездешние порывания и стремления притуплялись, по выражению Александра Блока, «болезнью века, начинающимся fin de siecle». Прямее говоря — чувством и приятием гибели.
Самонадеянное «Да будет!..» вывело не к свету, а к закату, к возмездию: «…мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка».
Эти слова Блок обращал и к себе.
Неоспоримая доблесть Георгия Иванова состоит в том, что он эту правду признал сполна, а признав, не отказался от «дрянной» личины, сумел извлечь из «тлеющей душонки» череду надмирных гармонических созвучий.
Подобные переживания неординарны и на самом деле эзотеричны. Но как раз благодаря своей эзотеричности культура «серебряною века» уцелела до наших дней и на наших глазах, понятая как единое метафизическое целое, приобрела все черты того самого, берущего дыхание у мировой культуры и открытого проблемам современности большого стиля , по которому тосковала. Ни символизм, ни акмеизм, ни футуризм, взятые порознь, на такую высоту претендовать не могут.
В мировой поэзии «серебряный век» имеет аналогию, конечно, не с мифическими «золотым» и «серебряным» веками, но с Римом времен Тацита, Сенеки, Марциала — с его «серебряной латынью».
Это необязательное сравнение важно в том смысле, что весь русский «серебряный век» жил любовью к далековатым ассоциациям, основной эстетической мерой избрал категорию «соответствий», был насквозь цитатен. Он искал путей к априорным, от века данным истинам. И в то же время навряд ли сыщутся ценности, не подвергнутые «серебряным веком» сомнению, им не осмеянные.
Сравнение с пушкинским «золотым веком» нашей культуры корректно лишь в том смысле, что «серебряный век» вновь вывел на авансцену поэзию, воскресил романтический дух, утраченный позитивистской, утилитарной идеологией второй половины XIX века. В остальном же типологическое сближение пушкинской эпохи с временем эсхатологического модернизма начала XX века сомнительно, также как наименование «серебряный век»[2] не адекватно самому явлению. Напрашивающимся сравнением с «золотым веком» оно подчеркивает вторичность явления, в то время как прямых аналогов в русской культуре не имеет. Из чего не следует, что корни его лежат вне России. Коллективное бессознательное этой культуры как раз сугубо русское, до чрезвычайности отзывчивое, готовое ассимилировать в себе (равно как и «бросить с парохода современности») любое чужое слово. Но в первую очередь это культура, выработавшая свой язык для хитросплетений своей , ни с чьей другой не сравнимой драмы. К описанию ее коллизий лучшие слова нашел Борис Пастернак:
Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.
Сказано это в приветственном послании Валерию Брюсову, корифею не названного еще тогда «серебряным» и никак не равного «веку» исторического промежутка. 1923 год, finita la commedia, пьеса завершена. Но название к ней еще не придумано.
Вопрос, поставленный «серебряным веком», звучит так: спасает человека культура или не спасает? То есть возможно ли положительное преображение жизни на фундаменте культуры? Символизм и футуризм видели в жизнестроительстве цель, акмеизм ее из программы исключил, но все три течения вдохновляются этой проблематикой как исходной.