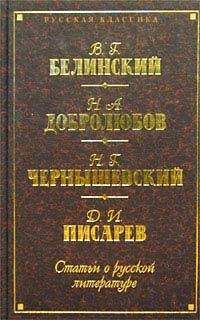Показать, как из всякого брожения выходило в Пушкине цельным это типовое, было бы задачей труда огромного. В великой натуре Пушкина, ничего не исключающей: ни тревожно-романтического начала, ни юмора здравого рассудка, ни страстности, ни северной рефлексии, – в натуре, на все отозвавшейся, но отозвавшейся в меру русской души, – заключается оправдание и примирение для всех наших теперешних, по-видимому, столь враждебно раздвоившихся сочувствий.
В настоящую минуту мы видим только раздвоение. Смеясь над нашими недавними сочувствиями, относясь к ним теперь постоянно критически, мы, собственно, смеемся не над ними, а над их напряженностию. И до Пушкина, и после Пушкина мы в сочувствиях и враждах постоянно пересаливали: в нем одном, как нашем единственном цельном гении, заключается правильная, художественно-нравственная мера, мера, уже дознанная, уже окрепшая в различных столкновениях. В его натуре – очерками обозначились наши физиономические особенности полно и цельно, хотя еще без красок – и все современное литературное движение есть только наполнение красками рафаэлевски правдивых и изящных очерков.
Пушкин выносил в себе все. Он долго, например, носил в себе в юности мутно-чувственную струю ложного классицизма (эпоха лицейских и первых послелицейских стихотворений); из нее он вышел наивен и чист, да еще с богатым запасом живучих сил для противодействия романтической туманности, от которой ничто не защищало несравненно менее цельный талант Жуковского. Эта мутная струя впоследствии очистилась у него до наивного пластицизма древности, и, благодаря стройной мере его натуры, ни одна словесность не представит таких чистых и совершенно ваятельных стихотворений, как пушкинские. Но и в этом отношении как он сам, так и все, что пошло от него по прямой линии (Майков, Фет в их антологических стихотворениях), умели уберечься в границах здравого, ясного смысла и здравого, достойного разумно-нравственного существа, сочувствия. Молодое кипение этой струи отразилось у самого Пушкина в нескольких стихотворениях молодости, отражалось, благодаря его наполовину африканской крови, и в последующие эпохи стихотворениями удивительными и пламенными («Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»), которые, однако, он не хотел видеть в печати. Оно обособилось в пламенном Языкове, но и тот искал потом успокоения своему жгучему лиризму или в высших сферах вдохновения, или в созданиях более объективных и спокойных, какова, например, «Сказка о Сером волке и Иване царевиче», красоту которой, говоря par parenthèse[28], мы потеряли способность ценить, избалованные судорожными вдохновениями современных муз. Напряженность же, насильственно подогретое клокотание этой струи – истощило в наши времена талант г. Щербины и весьма еще недавно вылилось в мутно-сладострастных стихах молодого, только что начинающего поэта, г. Тура; но не следует по злоупотреблениям, противным здравому русскому чувству, умозаключать, что самая струя, в меру взятая, ему противна...
Вообще же не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий – Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии. Гоголь явился только меркою наших антипатий и живым органом их законности, поэтом чисто отрицательным; симпатий же наших кровных, племенных, жизненных он олицетворить не мог, во-первых, как малоросс, а во-вторых, как уединенный и болезненный аскет.
В русской натуре вообще заключается одинаковое, равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных. Нещадно смеясь над всем, что несообразно с нашей душевной мерой, хотя бы безобразие несообразности явилось даже в том, что мы любим и уважаем, чем мы и отличаемся от других народов, в особенности от немцев, совершенно неспособных к комическому взгляду, мы столь же мало способны к строгой, однообразной чинности, кладущей на все печать уровня внешнего порядка и составной цельности. Любя праздники и целую жизнь проживая иногда в праздношатательстве и кружении, мы не можем мешать дело с бездельем и, делая дело, сладострастно наслаждаться в нем мыслию о приготовлении себе известной порции законного безделья; – чем опять-таки мы отличаемся от немцев: нет! мы все говорим, как один из наших типических героев, грибоедовский Чацкий:
Когда дела – я от веселья прячусь,
Когда дурачиться – дурачусь.
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма охотников – я не из их числа!
Мы можем ничего не делать, но не можем с важностию делать ничего, il far niente[29], как итальянцы. А с другой стороны, мы не можем помириться с вечной суетой и толкотней общественно-буднишней жизни, не можем заглушить в ней тревожного голоса своих высших духовных интересов или впадаем в хандру – и вот почему, изо всех произвольно составленных утопий общественных, нет для русской души противнее утопии Фурье, хотя нет племени, в котором братство, любовь, незлобие и общение были бы так просты и непосредственны.
Пока эта природа с богатыми стихийными началами и с беспощадным здравым смыслом живет еще сама в себе, то есть живет бессознательно, без столкновения с другими живыми организмами, – как то было до реформы Петра, – она еще спокойно верит в свою стихийную жизнь, еще не определяет, не разлагает своих стихийных начал, довольствуясь теми формами, в которые свободно уложилось все ее стихийное...
Стольник, например, Лихачев, ездивший от царя Алексея Михайловича править посольство во град Флоренск к дуку Фердинандусу, носил в душе крепко сложившиеся, вековые типы, которых он никогда не разлагал, в которых он никогда не сомневался и дальше которых он ничего не видел. Его непосредственное отношение к жизни, вовсе ему чуждой, так дорого, что нельзя без искреннего умиления читать у него хоть бы вот это: «В Ливорно церковь Греческая во имя Николая Чудотворца и протопоп Афанасий – да в Венеции церковь же Греческая, а больше того от Рима до Кольского острога нигде нет благочестия«. Вы нисколько не заподозрите также его искренности, когда он с вершины своих типовых, никогда не разложенных им убеждений рассказывает вам об аудиенции у дука Фердинандуса[30]. Вы понимаете всю неразорванность этого взгляда, всю цельность и известную красоту типа, лежащего в его основании. Тип этот, наследованный от предков, – завещанный предками, – ни разу еще не сличал себя с другими жизненно-историческими типами. Он есть до того простое и наивное верование, что скажется скорее комическим взглядом на все другие типы, чем сомнением в самом себе и своей исключительной законности, – и, будет ли это Лихачев во Флоренции, Чемоданов в Венеции, Потемкин во Франции, наконец, в эпоху позднейшую, даже Денис Фонвизин в разных иностранных землях, – вы в них верите, вы их понимаете, вы их любите, – разумеется, если вы – кровный русский. Вы понимаете, как с незыблемо утвержденных основ своего типа должны они смотреть на все чуждое, что им представляется; вы цените тонкую ловкость Чемоданова, хитро выспрашивающего венециан насчет разных полезных вещей, и не потребуете от него, конечно, чтобы он восхищался фантастическою, мрачно-пестрою, трагически-сладострастною Венециею и приходил в лиризм
С венецианкой молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле.
Вы не возмущаетесь тем, что Денису Фонвизину в варшавском театре звуки польского языка кажутся подлыми – и поражаетесь скорее меткостию и злой правдивостию его замечаний, вроде того, что «рассудка француз не имеет, да иметь его почел бы за величайшее несчастие». Все эти черты старого типа вам понятны, любезны и почтенны. Тип хранится этими людьми так верно, так искренно, что они и понять не могут ничего того, что их типу противоречит. Потемкин во Франции, оскорбленный откупщиком «маршалка де Граммона», хотевшего взять пошлину с окладов святых икон, прямо называет его «врагом креста Христова и псом несытым» – и знать не хочет, что откупщик действует на основании своих прав...
Такова крепость типа в его еще покойном, бессознательном состоянии... Естественно, что в этой цельности и замкнутости он остаться не может при столкновении с другими типами.
Эта же самая природа с богатыми стихийными силами и с беспощадно-критическим здравым смыслом – вдруг поставлена, и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда, в столкновение с иною, доселе чуждою ей жизнию, с иными крепко же и притом роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый раз она, как Фонвизин, отнеслась к этим чуждым ей типам только критически. Но потом происходит неминуемо другой процесс. Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурею, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя, бездонная пропасть. Оказывается, как только старый исключительный тип разложился, что в нас есть сочувствие ко всем идеалам, то есть существуют стихии для создания многообразных идеалов. Сущность наша, личность, то есть типовая мера, душевная единица на время позабывается: действуют только силы страшные, дикие, необузданные. Каждая хочет сделаться центром души – и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой, третьей, многих, равно просящих работы, равно зиждительных и, стало быть, равно разрушительных, и если бы в каждой силе не заключалась ее равномерная отрицательная сторона, указывающая неумолимо на все неправильные, смешные – противные типовой душевной мере уклонения.