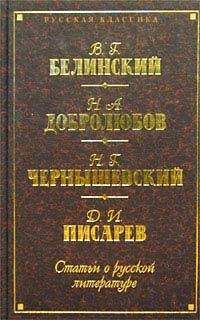Способность сил доходить до крайних пределов, соединенная с типовою болезненно-критическою отрыжкою, порождает состояние страшной борьбы. В этой борьбе закруживаются неминуемо натуры могущественные, но не гармонические, натуры допотопных образований: – и часто мрачное fatum[31] уносит и гармонические натуры, попавшие в водоворот.
Наши великие, бывшие доселе, решительно представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех возможных направлениях служебную деятельность стихий, но забывающими порою, что не всегда можно пускать на свободу эти порождения душевной бездны. Стоит только стихии вырваться из центра на периферию, чтобы, по общему закону организмов, – она стала обособляться, сосредоточиваться около собственного центра и получила свое отдельное, цельное и реальное бытие...
И тогда – горе заклинателю, который выпустил ее из центра, и это горе неминуемо ждет всякого заклинателя, поколику он человек... Пушкина скосила отделившаяся от него стихия Алеко, – Лермонтова – тот страшный идеал, который сиял пред ним, «как царь немой и гордый», и от мрачной красоты которого самому ему «было страшно и душа тоскою сжималася»; Кольцова – та раздражительная и начинавшая во всем сомневаться стихия, которую тщетно заклинал он своими «Думами». А сколько могучих, но негармонических личностей закруживали стихийные начала: Милонова, Кострова, Радищева в прошлом веке, – Полежаева, Мочалова, Варламова на нашей памяти.
Да не скажут, чтобы я здесь играл словами. Стихийное начало вовсе не то, что личность. Личность пушкинская не Алеко и вместе с тем не Иван Петрович Белкин, от лица которого он любил рассказывать свои повести; личность пушкинская – сам Пушкин, заклинатель и властелин многообразных стихий; как личность лермонтовская – не Арбенин и не Печорин, а сам он,
Еще неведомый избранник, —
и, может быть, по словам Гоголя, «будущий великий живописец русского быта». Прасол Кольцов, умевший ловко вести свои торговые дела, спас бы нам надолго жизнь великого лирика Кольцова, – если б не пожрала его, вырвавшись за пределы, та раздражающая действительностию, недовольная, слишком впечатлительная сила, которую не всегда заклинал он своей возвышенной и трогательной молитвою:
О, гори, лампада,
Ярче пред распятьем...
Тяжелы мне думы.
Сладостна молитва.
В Пушкине, по преимуществу, как в первом цельном очерке русской натуры, очерке, в котором обозначились и объем и границы ее сочувствий, – отразилась эта борьба, высказался этот момент нашей духовной жизни, хотя великий муж был и не рабом, а властелином и заклинателем этого страшного момента.
Поучительна в высокой степени история душевной борьбы Пушкина с различными идеалами, борьбы, из которой он выходит всегда самим собою, особенным типом, совершенно новым. Ибо что, например, общего между Онегиным и Чайльд-Гарольдом Байрона, что общего между пушкинским и байроновским, или мольеровским французским, или, наконец, испанским Дон-Жуаном?.. Это типы совершенно различные, ибо Пушкин, по словам Белинского, был представителем мира русского, человечества русского. Мрачный сплин и язвительный скептицизм Чайльд-Гарольда заменился в лице Онегина хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее своих идеалов, который наделен критическою способностию здорового русского смысла, то есть прирожденною, а не приобретенною критической способностию, который – критик, потому что даровит, а не потому, что озлоблен, хотя сам и хочет искать причин своего критического настройства в озлоблении, и которому та же критическая способность может – того и гляди – указать дорогу, выйти из ложного и напряженного положения на ровную дорогу.
С другой стороны, Дон-Жуан южных легенд – это сладострастное кипение крови, соединенное с демонски скептическим началом, на которое намекает великое создание Мольера и которым до опьянения восторгается немец Гофман, – эти свойства обращаются в создании Пушкина в какую-то беспечную, юную, безграничную жажду наслаждения, в сознательное даровитое чувство красоты, в способность «по узенькой пятке» дорисовать весь образ, способность находить «странную приятность» в «потухшем взоре и помертвелых глазках черноокой Инесы»; тип создается, одним словом, из южной, даже африканской страстности, но смягченной русским тонко критическим чувством, – из чисто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожигаемою жизнию, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями, – так что чуть впечатление принято душою, душа уже далеко, и только «на снеговой пороше» остался след «не зайки, не горностайки», а Чурилы Пленковича, этого Дон-Жуана мифических времен, порождения нашей народной фантазии.
Взгляните еще на борьбу пушкинской, то есть идеально русской натуры, с тем типом, в котором
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм, —
на эту схватку с совершенно сложившимся исторически типом могучих, но еще не уходившихся стихийных начал, в которых идеал, мерка не доросли еще до сознания, а между тем бессознательно сказываются, подают свой голос при всяком лишнем шаге и невольно их обуздывают.Эта поучительная для нас борьба и в гениально юношеском лепете «Кавказского пленника», и в Алеко, и в Гирее (недаром же печальной памяти «Маяк» объявлял героев Пушкина уголовными преступниками!), и в Онегине, и в ироническом, лихорадочном и вместе сухом тоне «Пиковой дамы», и в отношениях Ивана Петровича Белкина к мрачному Сильвио в повести «Выстрел». На каждой из этих ступеней борьба стоит подробнейшего изучения... Но что везде особенно поразительно, так это постоянная непоследовательность живой и самобытной души, ее упорная непокорность усвояемому ей типу, при постоянной последовательности умственной, последовательности понимания и усвоения типа. Ясно видно, что в типе есть для этой души что-то неотразимо влекущее и есть вместе с тем что-то такое, чему она постоянно изменяет, что, стало быть, решительно не по ней. Я позволяю себе думать, что глубокое психологическое изучение этих душевных пушкинских отношений внесло бы в наше сознание гораздо больше ясности, чем возгласы о том, что Пушкин и Гоголь, изволите видеть, не сознавали принципов, а г. NN или г. ZZ их сознают и, стало быть, имеют большее для нас значение. Я – и авось-либо не один я – не знаю, да и знать не хочу, какие принципы и какое учение сознавал Пушкин, – а знаю, что для нашей русской натуры он все более и более будет становиться меркою принципов. В нем заключается все наше – все, от отношений, совершенно двойственных, нашего сознания к Петру и его делу до наших тщетных усилий насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой жизни, до нашей столь же тщетной теперешней борьбы с этими идеалами и столь же тщетных усилий вовсе от них оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами. И все истинные, правдивые стремления современной нашей литературы находятся в духовном родстве с пушкинскими стремлениями, от них по прямой линии ведут свое начало. В Пушкине надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широким очерком, весь наш душевный процесс – и тайна этого процесса в его следующем, глубоко душевном и благоухающем стихотворении:
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
На ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней чистотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
Этот процесс со всеми нами в отдельности и с нашею общественною жизнию совершался и поныне совершается. Кто не видит могучих произрастаний типового, коренного, народного – того природа обделила зрением и вообще чутьем.
Случайно или, пожалуй, и не случайно, наше славянское коренное и типовое есть вместе и наиболее удобная подкладка для истинно человеческого, то есть христианского, – но только подкладка, не более. И таковою подкладкой является оно вследствие своих отрицательных качеств, страдательных, с одной стороны, критических, с другой. Благодаря тем и другим мы не можем долго и насильственно поддерживать в себе поклонения какому бы ни было человеческому типу, какому бы ни было кумиру, из какого бы драгоценного металла или мрамора этот кумир ни был создан и как бы изящно он ни создался, – а вместе с тем во всяком типе мы видим и слабые его стороны – и тотчас же относимся к ним комически, как бы дорог тип нам ни был.
В этом-то отношении, в цельной натуре Пушкина и в ее борьбе с различными, тревожившими ее и пережитыми ею типами – и заключается для нас слово разгадки... Повторяю еще раз: Пушкин все наше перечувствовал (разумеется, только как поэт, в благоухании), от любви к загнанной старине («Родословная моего героя») до сочувствий реформе («Медный всадник»), от наших страстных увлечений эгоистически-обаятельными идеалами до смиренного служения Савелья («Капитанская дочка»), от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления, жажды «матери пустыни», и только смерть помешала ему воплотить наши высшие стремления и весь дух кротости и любви в просветленном образе Тазита, – смерть, которая унесла его столь же преждевременно, как братьев его по духу, таких же набрасывателей многообъемлющего и многосодержащего идеала, Рафаэля Санцио и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все, разметывающееся в ширину, и коренится, как дуб, односторонняя глубина...