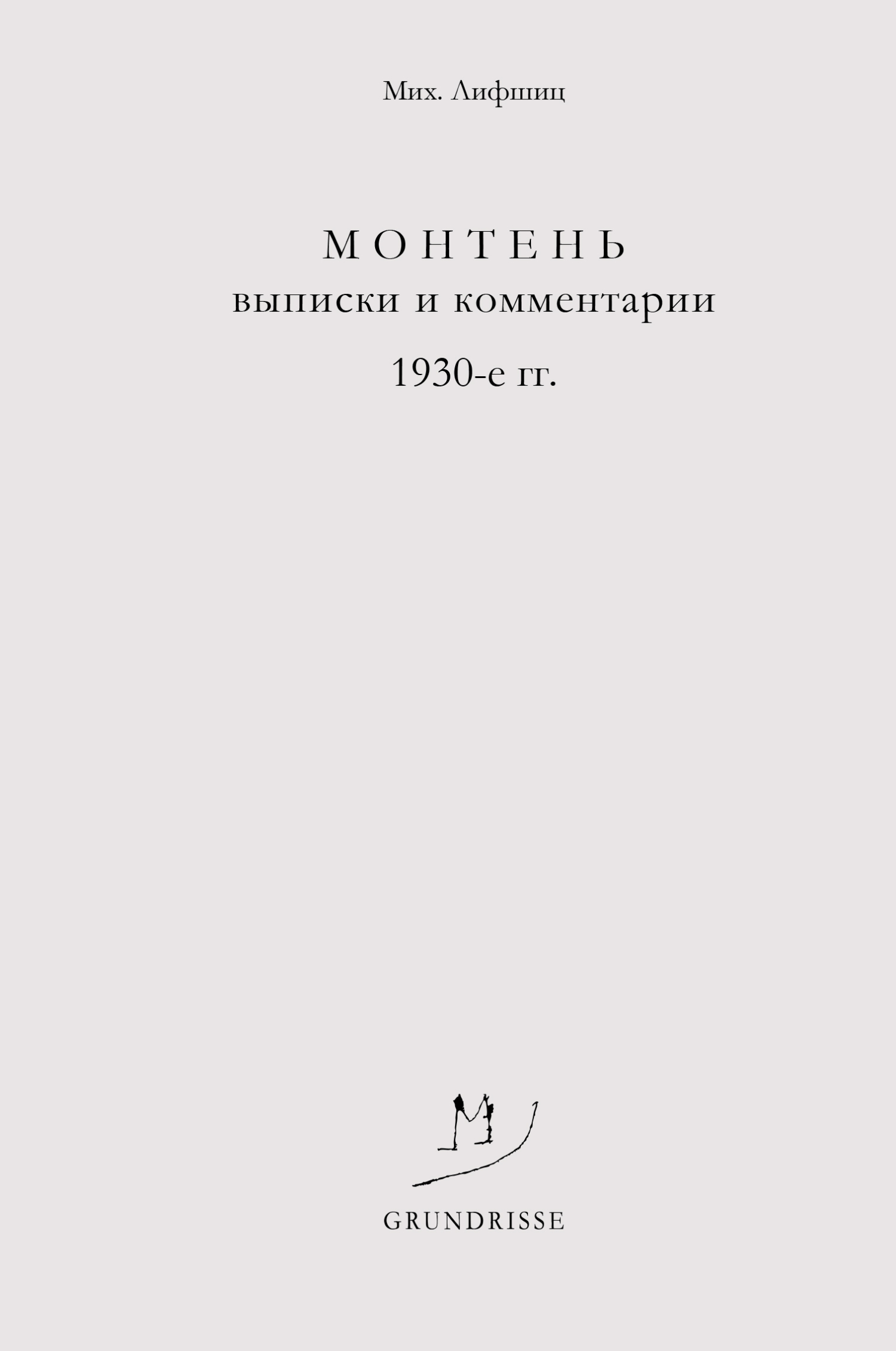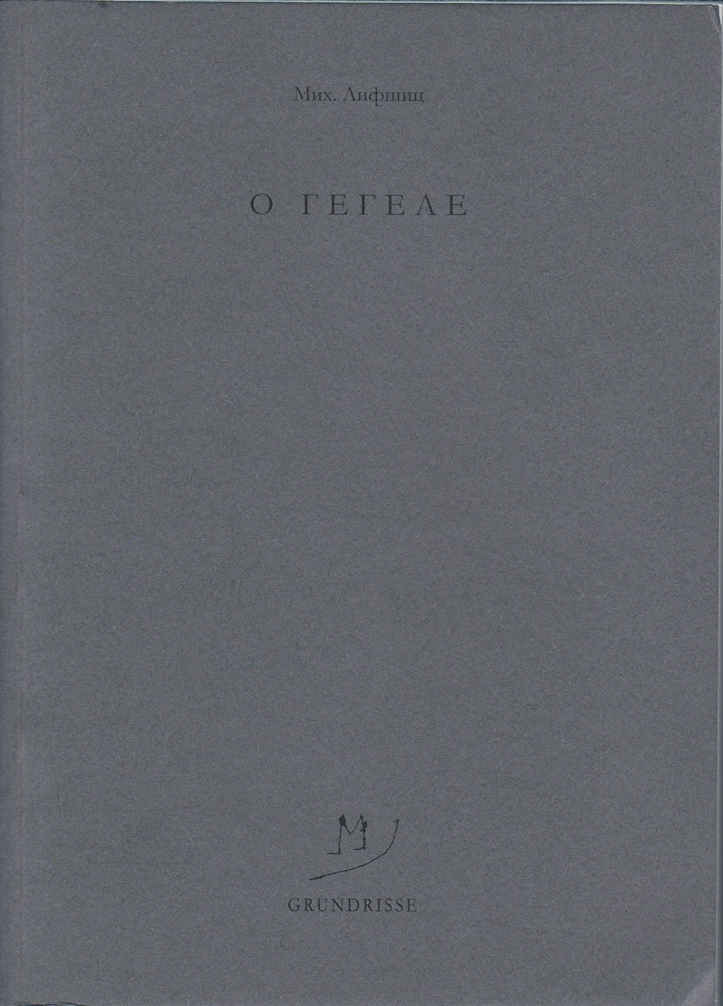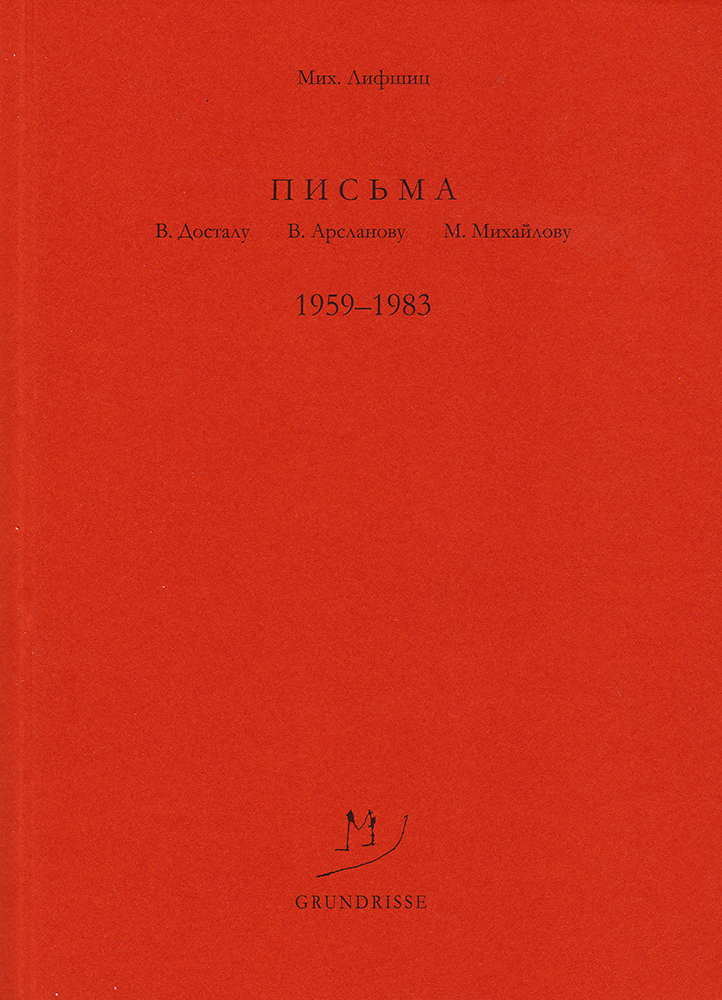сле дить за тем, чтобы развитие наше в этом смысле происходило в действительно нормальном направлении. Здесь всё важно: важны очень маленькие оттенки больших явлений и оценки небольших явлений и небольших людей, сравнительные их оценки – всё это очень важно, если это вытекает из правильных общих принципов.
Жаль, что должен прервать мою лекцию, потому что я уже все сроки превзошёл, а мне нужно уезжать. На этом разрешите закончить.
Михаил Лифшиц. 1925
Михаил Лифшиц. 1929
На оборотной стороне сохранилась надпись, принадлежащая, по воспоминаниям дочери Лифшица Анны Михайловны, сотруднице одного из московских издательств, поклоннице Михаила Александровича: «Тов. Молодому Учёному М.А. Лифшицу. Такому очаровательному, такому человечному, каким был бы бог, если б он был. М. Блох. Москва. 15/VI 29 г.»
Михаил Лифшиц. 1945
Михаил Александрович дома. 1974–1976.
Фото Лидии Яковлевны Рейнгардт
Михаил Александрович в Доме ветеранов кино в Матвеевском.
Начало 1980-х
Н. Дмитриева
Конспекты лекций М.А. Лифшица. 1938–1939
Нина Александровна Дмитриева (1917–2003), историк искусства, была студенткой ИФЛИ в конце 1930-х годов. На вопрос о самом сильном впечатлении от учёбы в институте она ответила: «Лифшиц».
В настоящем издании публикуются её конспекты лекций Лифшица, обнаруженные в одной из папок его архива. Приводим фрагмент письма Н. Дмитриевой, адресованного вдове Лифшица Лидии Яковлевне Рейнгардт. Из этого фрагмента ясно, что Лидия Яковлевна хотела подготовить лекции к публикации.
22 мая 1989
Уважаемая Лидия Яковлевна!
Насколько я понимаю, тот курс, который Михаил Александрович начал читать в 1940 году (и не окончил), мыслился им как более развёрнутое теоретически и обогащённое исторически повторение курса, прочитанного в 1939 году (который я конспектировала). Даже, может быть, не повторение, а нечто новое, хотя на тех же философских основаниях и с той же целью: создать марксистскую теорию искусства, свободную от вульгарно-социологических деформаций.
Главные свои тезисы, в предварительном виде, он изложил уже в лекциях 1939 года, и, как мне кажется, даже в моём кратком конспекте они достаточно ясно прочитываются. По-моему, это неплохой конспект: в нём нет языка Лифшица, его манеры изложения, многое опущено, но главные мысли сохранены.
Приступая к курсу 1940 года, М.А. начал гораздо более издалека. Он начал с того, почему вообще нужна теория искусства, и показал, что установка на чисто эмпирическое изучение истории искусства себя не оправдывает: она порождает эклектические методы исследования, основанные на клочках когда-то бывших и изживших себя теорий. Обзору этих теорий и критике, очень остроумной, их эклектического использования посвящена лекция от 8 октября 1940 года, стенограмма которой занимает 43 страницы на машинке (вероятно, тут не одна лекция, а больше, может быть, две). Вот этот текст я, как могла, выправила. Но здесь та трудность, о которой я Вам уже говорила: цитаты пропущены, собственные имена перевраны. Здесь я ничего сделать не могу. Правда, имеется ещё текст на двенадцати страницах, озаглавленный «Лекция первая», – он представляет собой литературную переработку лекции от 8 октября, вернее, её первой части 155. В этом тексте всё вполне грамотно и цитаты на месте. Можно предположить, что М.А. сам приступал к редактированию, т. е., собственно, хотел заново написать свой курс на основании стенограмм. Но этими двенадцатью страницами, где одна цитата из «Шагреневой кожи» занимает несколько страниц, дело и ограничилось.
Следующие лекции развивают отдельные положения первой, и только где-то в конце М.А. подходит к тому, с чего предыдущий курс начинался – к критическому анализу Каутского, Меринга, Плеханова и т. д. А до самого основного – до изложения своих собственных идей, связанных с марксистской эстетикой, как он её понимал, он в этом курсе дойти не успел, помешала война…
С уважением, Н. Дмитриева
20 декабря 1938
Одно из основных положений марксистской теории: бытие определяет сознание. Но этой формулой не исчерпывается всё богатство форм сознания и все оттенки отношений субъекта к среде. В применении к теории искусства положение это требует дальнейшего развития. Энгельс неоднократно указывал, что оно является не универсальной отмычкой, а лишь руководящей нитью 156.
Этот вопрос разрабатывался (главным образом в 1890-х гг.) Лафаргом, Каутским, Плехановым и Мерингом. В той или иной мере всем им было свойственно одностороннее, схематическое понимание данной формулы, что впоследствии привело к вульгарной социологии.
Абсолютизация экономического детерминизма имеет своим следствием отрицание объективной истины, отрицание возможности дать научную картину мира. Если самосознание всегда и всецело определено экономическими условиями, то, стало быть, ими ограничено и самосознание исследователя, а значит, он не может претендовать на объективную истинность своих выводов.
На самом деле это не так. Какая роль принадлежит самосознанию и как примирить его с зависимостью сознания от экономического фактора? Лафарг вообще не даёт ответа на этот вопрос. У Каутского встречается мысль о самостоятельном развитии идей. Ленин сочувственно цитировал в книге «Что делать?» то место из сочинений Каутского, где говорится, что социалистическое сознание не вытекает само собой из классовой борьбы, а привносится извне представителями буржуазной интеллигенции 157. С точки зрения Лафарга и Плеханова, эта мысль противоречит марксистской теории, Ленин же считал её справедливой. Это не значит, что можно отождествлять взгляды Каутского и Ленина. Дальнейшее развитие Каутского, как известно, увело его от марксизма. Но ещё и тогда, когда он стоял на марксистских позициях, он выдвигал своё положение о самостоятельном развитии идей как ограничение материалистической теории «в пользу здравого смысла». Тенденция, характерная для деятелей II Интернационала: урезать, ограничить материалистическую теорию, доказать, что она распространяется не на все области познания. У Богданова эта тенденция доходит до утверждения, будто наша социальная теория является лишь условностью, принятой для упорядочения получаемых ощущений.
В связи с проблемой взаимоотношения экономики и сознания встаёт вопрос о том, как следует представлять себе историю науки, историю развития научных идей. Почему некоторые научные идеи в течение многих веков находятся в забвении, а затем вновь возникают (напр., учение об атомах)? Существует какая-то несомненная связь между познанием природы, естествознанием и познанием общества. Для того, чтобы могло развиваться учение об атомах, нужны были определённые исторические условия: естествознание тоже не может быть вынесено за скобки истории. Каутский не прав, рассматривая мышление как биологический акт и сужая, таким образом, сферу действия исторического материализма. По его мнению, сущность художественной формы или научной теории историко-материалистическому методу недоступна: последний лишь констатирует изменчивость этих категорий 158.
Вульгарная социология шла по стопам Каутского, исключая из своего рассмотрения художественное своеобразие мастеров, изучение их биографий и пр., признавая