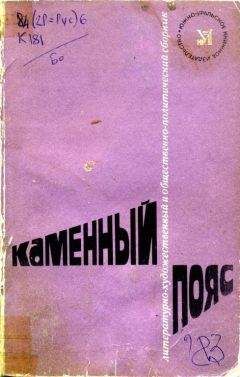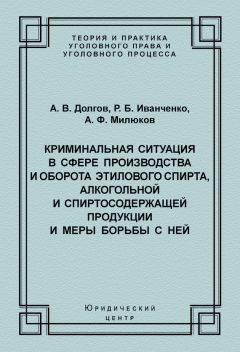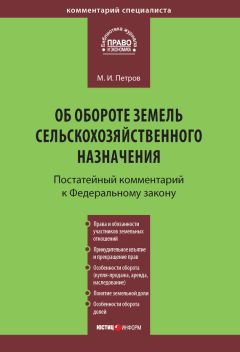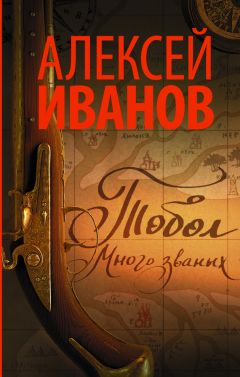— Ну-кось, цыц! — прикрикнул он на нас. — Разыгралися, как малы дети. Песок из кажинного сыплется, а потискаться им, вишь, охота. Фенька! Вставай, дура, да подол с головы сыми. Вон Витька твой на лисапеде едет, посмотрит, как мамка евона…
— Да чтоб спина не болела, дедко! — сконфузилась Феня. — И ты б кувырнулся…
— Я откувырялся свое. Мне не поможет.
— Не поможет, так и помалкивай! — отрезала пришедшая в себя Феня. — Нашелся тут стыдильщик. Эвон, под мужиком меня застал.
— Дак и тебе не поможет, дура-баба. Надо с первым ударом грома кувыряться. А ты проснулась…
Выяснилось, что запоздали с леченьем поясниц; но мы не расстроились, потому что поговорка на выручалах: лучше поздно, чем никогда.
— Сашка! — дошел дед до меня. Электромотор там трендит, гроза ведь. Неровен час…
— Ничего, дедко, пронесет, — говорю. — Первая гроза милостива.
Снова треснуло, сухо и без раската, почти над нашими головами. Тут же зашелестел в воздухе на подлете к земле и ударил враз по низким крышам крупный дождь, отскочил, рассыпавшись, от шифера, обдал нас водяной пылью, и только потом с застрех вместе с соломенной трухой и всяким другим сором потекли резвые ручейки.
Я побежал отключить на всякий случай рубильник. Опаски особой не было, что гроза наделает беды при работающем электромоторе, что со мной случится неладное, — нельзя, говорят, бегать в грозу. Но бежал — не будешь же прогуливаться под таким проливнем. Да и то сказать: за зиму отвыкает человек от грозовых напастей, а потом в самом деле верит, что первая гроза милостива.
Небо сверкало и грохотало без передыху, и я ловил взглядом полет молний. Тучи сражались между собой, прошивали друг дружку ломаными стрелами, но ни одна стрела не упала на землю. Это была война «воздух-воздух», война «воздух-земля» пойдет летом — тогда уж держи ухо востро.
Вообще я грозы не боюсь. Вернее, боюсь, но не за себя. Понимаешь ведь с возрастом, что страшна не сама смерть, а страшны муки перед смертью. От грозы же смерть — самая легкая: стукнет тебя невзначай, а как — не успеешь почувствовать. Переживаю за близких своих, за постройку, которая стольких трудов стоила, за скотину, что в открытом поле. Но в прошлом году, помню, перепугался ни с того ни с сего именно за себя, грешного.
Рубил я сосну в бору. Дело не воровское — законное, потому что лес у меня был выписан и бумаги лежали дома, вместе с документами. То есть с этой стороны страха никакого. И с той стороны, что, дескать, гублю живое дерево, тоже вроде бы никаких угрызений. Мало ли, плотничая долгие годы, я лесу потратил!
Но тут что-то засвербило в душе. Хотя не сразу. Высмотрел сперва, куда валить, сделал надруб у самых корней, поплевал на руки да застучал с другой стороны, повыше надруба, чтоб не пошла сосна вспять. А дерево смолистое, вместе со щепой брызги по сторонам из-под топора. Достали брызги и до лица. Облизнулся — сладко. Глянул вверх — шапка валится, до того сосна высока да стройна, а крона на самой верхушке. Экие насосы, подумал, надо, чтоб на такую высоту сок подавать! Потюкал еще, но сила удара уже не та — то ли устал, то ли задумался. Как ни крути, а жалко по живому рубить. Она годов полста стоит. Каково было выжить, обогнать сверстниц! В нитку тянись, напрягайся изо всех сил, чтоб маковкой чувствовать солнце. Вытянулась — от ветров уберегись, от жучка-древоточца, от слепой молнии, да мало ли в природе напастей.
От моего топора не убереглась.
Тюкнул я еще раз — вдруг как грохнет над головой, я и топор выронил. Глянул вверх — синяя туча над сосной, гроза зашла откуда ни возьмись. И такая на меня оторопь навалилась, что я тут же бросил свою затею, подхватил топор под мышку да пугливым шажком в деревню: думаю, только в родном доме уберегусь от небесного наказанья. Позади меня посверкивает, громыхает сердито, а спина моя помимо воли горбится, голова в плечи прячется, рубаха взмокла.
Сверкнуло и треснуло уж совсем рядом, специально, думаю, для меня, в следующий раз в аккурат накроет, не в меня самого, так к топору притянет. Бросил топор в кусты. А все равно до того страшно, что прощенья у господа бога я, некрещеный, просить готов.
Лиза, жена моя, дома встречает меня.
— Что случилось-то? — спрашивает. — Смотри-кось, лица на тебе нет.
— Да топорище лопнуло, — соврал я ей.
Покурил, успокоился.
А гроза стороной прошла.
На другой день, скрепя сердце, дорубил я сосну, приволок домой, но в дело она так и не пошла. То некогда — сенокос как раз начался, то опаска какая-то останавливала. К осени бревно высохло так, что сердцевину видать. Куда ж такое приспособишь?
И дал я зарок — не рубить дерева в смологон, да и никто из настоящих плотников этого не делает. Лес заготавливают зимой, когда дерево спит. Тогда и вины на тебе меньше, и древесина прочней, не будет лопаться, высыхая…
Выключил я рубильник да трусцой назад, к артели. Собрались все в красном уголке, сидят, грозу пережидают. Спорят, кому какое время года по сердцу, на деда Никифора насели.
— И не говорите без толку, — сердится дед. — Запоздалая молодость в вас бродит. Ве-есна-а!.. Што — весна? Пора желторотых, беспечных. А у них одно на уме — лишь бы потискаться, благо што сами ничего не видим. Вон пойди к реке да попробуй на лягуху не наступи. Друг на дружке сидят — ступить некуда. Сонные, жирные, ногой пни — она и ухом не ведет. Одно на уме — любовь.
— Да чем плохо-то, дедко?
— А тем и плохо, што окромя любви ничего в голове нету. Ию швыряй, топчи, а она любовну песню токо и знает. Што животное, што человек в это время вислоухи да беззащитны.
— Сказал уж… Сам отлюбил, так и никому теперь нельзя, — сердито вставила Феня. — Любовь-то жизнь дает.
— Ишшо поглядеть надо, каку таку жизнь. Да можа така жизнь, што лучше б ей и не было.
Тут старику никто не перечит. Кто-то согласен, памятуя о своих ли, чужих ли неудавшихся детях, кто-то просто опасается возразить, потому что это только масла в огонь подольет — дед совсем раздухарится, перейдет на личности, будет всех в грехи носом тыкать. А кто без греха, особенно для языка без костей? Но ему не скажи, что вот, дескать, ты, дед, детей настрогал, все выросли и о тебе забыли, и приходится теперь тебе на восьмом десятке самому на хлеб зарабатывать. В общем-то дед Никифор о своей болячке и говорит, только переносит ее на других. Мы всегда любим ругать в людях то, что сидит в нас самих.
— Выходит, дедко, весна не для тебя. А какое время года тебе милей?
— Мне осень по сердцу.
— А почему осень?
— Помереть хочу осенью.
— Ну-у! Да разве смерть выбирает?
— Не выбирает. Верно. Но я хочу и бога прошу об этом: пошли смередушку, господи, осенью на раба твоего Никифора! — дед перекрестил свое маленькое, скукоженное, как засохший лапоть, личико.
— Да зачем осень-то?
— А вот сами рассудите. Летом если — так протухну на другой день и деток не дождусь. У вас — страда, оторваться на похороны недосуг. Зимой тоже нехорошо. Могилу будут копать — проклянут, оставлю по себе худу память.
— Ну, а весной почему ж?
— И весной нельзя. Сезон токо начат. Обидно, если что… Досмотреть надо до конца.
— Да чего ж смотреть-то, если лягухи житья не дают, — подначила Феня.
Да зря подначила, потому что дед наскочил на нее, кулачком затряс, валенком в галоше запритопывал: дескать, Феня ему смерти скорой желает. Тут все принялись его уговаривать еще пожить, насилу успокоили его, борону эдакую, отправили домой досыпать перед ночью.
За разговорами не заметили, как ушла грозовая туча. Но не разъяснело, спускалась с неба теплая невесомая паморока, туманила помолодевшие дали.
Рабочий день кончился, надо было по привычке спешить домой, к нескончаемым делам по хозяйству, чем больше которые делаешь, тем больше их прибавляется. Сегодня глаза были повернуты в другую сторону — в лес, на реку. Туда-то я и направлялся. Из-за спины долетал разговор уходящей в деревню артели.
— Земля раздалась! Теперь зелень попрет. Да дедку-то с того еще жизнь горчей.
— Весной, говорит, нельзя помирать…
— Брешет. Можно и весной, да неохота.
— Само собой, брешет. «Смередушка моя, смередушка моя». Долдонит уж который год. Весна подойдет — до осени бы, думает, протянуть, посмотреть остатний разок. Осень подошла — опять не слава богу, тепла б дождаться.
— Да что ж его ругать за это? — звонко прорезался Фенин голос. — Всякому жить охота.
— Мы как раз об этом и говорим. Шла-шла да и проснулася. Пускай только не хитрит… — ответили ей, и уже ничего больше нельзя было разобрать.
Впереди в соснике закуковала кукушка, тоже первая нынешней весной. Прокуковала раз, другой, третий, но кто-то, видно, спугнул ее, потому что она вдруг заполошно закаркала молодой вороной и полетела на новое место. Маловато она мне годков наобещала и куковала не в затылок, а прямо в лицо. Говорят, если в лицо, то все лето будешь слезами умываться. Но это меня не расстроило.