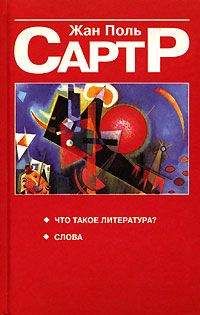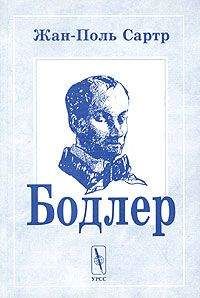Ознакомительная версия.
Но даже если бы нам это удалось, в этом не было бы никакой нашей заслуги. Национальный фронт организовал своих членов по профессиям. Все, кто работал на Сопротивление, знали, что врачи, инженеры, железнодорожники в своей области вкладывали в дело Сопротивления более значительный труд.
В любом случае, эта позиция далась нам легко из-за существующей великой традиции литературного отрицания. Но она рисковала после Освобождения обернуться отрицанием как системой и окончательно разделить писателей и читателей. Нас восхищали любые формы разрушения – дезертирство, неповиновение, крушения, поджог созревших хлебов, покушения. Все это были методы ведения войны.
С окончанием войны, мы из упрямства могли бы присоединиться к группе сюрреалистов и ко всем тем, кто делает из искусства радикальную форму бесконечного потребления. Но 1945 год сильно отличался от 1918. Легко было призывать потоп на победоносную сытую Францию, которая считала, что возвысилась над Европой. Потоп пришел. Что же нам разрушать? Великое метафизическое потребление последней послевоенной эпохи совершалось весело, на гребне радости от сброшенного гнета. А сейчас над нами висит война, голод и диктатура. Мы оказались сверхподавлены. На 1918 можно смотреть как на праздник. Тогда можно было устраивать фейерверк из двадцати веков культуры и накопления. Сегодня погашены все веселые огни, они просто не стали бы разгораться. Время веселья не спешит назад. В эти скудные годы литература отказывается от потребления, поскольку оно преждевременно. В богатом обществе угнетателей можно видеть в искусстве роскошь. Там она кажется признаком цивилизации. Но сегодня роскошь лишилась своего священного облика – черный рынок сделал ее фактором социального расслоения, она потеряла черту наглого потребления, которое составляло половину ее прелести. Сейчас потребляют потихоньку, тайком, чувствуют себя не на вершине социальной лестницы, а на ее обочине. Искусство чистого потребления оказалось бы в подвешенном состоянии без наслаждения хорошей кухней и одеждой. Оно могло бы доставить уединенное удовольствие привилегированной группке, этакое онанистское удовольствие. Превратилось в еще одну возможность пожалеть об утраченных радостях жизни. И это, когда вся Европа занята своим восстановлением, целые нации отказывают себе в насущном ради экспорта.
Как и Церковь, литература может приспособиться ко всем ситуациям. Она может спастись во всех случаях. Но тогда мы можем увидеть ее второй лик. Писать – вовсе не значит жить, вырываться из жизни, чтобы созерцать в мире благополучия Платонову квинтэссенцию и архетип прекрасного или дать себя разрубить, как шпагами, новыми и непонятными словами, появляющимися из-за нашей спины.
Писать – это быть ремесленником. Это ремесло требует обучения, непрерывного труда, профессиональной тщательности и ответственности. Эта ответственность не нова. Целых сто лет писатель стремится унестись в своем искусстве в сферу невинности. Эта сфера выше Добра и Зла, это сфера догреховного.
Общество определило наши задачи и наш долг. Видно, оно считает нас очень опасными. Общество приговорило к смерти тех из нас, кто сотрудничал с врагом, и оставило на свободе других людей, совершивших то же преступление. Сейчас считают, что лучше строить Атлантический вал, чем рассуждать о нем. Это не удивительно. Видно, общество столь безжалостно к нам потому, что мы потребители чистой воды. Расстрел одного писателя говорит только о том, что одним едоком стало меньше. Даже самый мелкий производитель превратился бы в большую потерю для нации.
Но я не утверждаю, что это справедливо. Это создает условия для любых злоупотреблений, цензуры, гонений. Но нас не может не радовать, что и наша профессия связана с определенным риском. Когда мы работали в подполье, мы рисковали гораздо меньше, чем печатник. Мне часто было за это стыдно. Но это научило нас нести ответственность за свои слова. Когда каждое слово может стоить чьей-то жизни, их нужно экономить. Недопустимо останавливаться или заливаться соловьем. Нужно было спешить, писать кратко.
Кризис языка приблизила война 14-го года. Я бы с удовольствием сказал, что война 40-го года вернула ему настоящую цену. Но хотелось бы, чтобы, возвратив себе свои настоящие имена, мы не отказывались бы от риска в целом. Ведь все равно, кровельщик рискует больше.
Если в обществе упор делается на производство и оно стремится свести потребление к самому необходимому, то в нем литературное произведение бесполезно. Писателю можно подчеркнуть то, что произведение стоило ему труда. Даже явно указав, что такой труд требует применения не меньших способностей, чем труд инженера или врача, все равно созданный писателем объект никогда не может быть признан богатством. Нас совсем не удручает полное отсутствие видимой пользы, наоборот, именно этим обстоятельством мы гордимся, потому что знаем: это залог свободы. Всякое произведение искусства бесполезно по определению, поскольку само является абсолютной целью и предстает перед публикой как категорический императив. Само по себе, оно не может и не желает быть продуктом, оно представляет собой свободную совесть производительного общества, а значит, подобно творениям Гесиода, отображает независимость производства по отношению к производителю. Дело не в том, чтобы возродить нудный и скучный производственный роман, классическим представителем которого был Пьер Амп. Однако, подобные мысли можно считать одновременно призывом и чем-то, опережающим события. Если уж нашим современникам показывают их труды и дни, следовало бы разъяснить людям задачи, общие принципы, и структуру их производственной деятельности.
Если отрицание – один лик свободы, то созидание – другое лицо этого Януса. Парадоксальная черта нашей эпохи заключается в том, что никогда раньше свобода созидания не подступала вплотную к самосознанию и никогда она подвергалась настолько всеобъемлющему отчуждению. Никогда так отчетливо не проявлялась продуктивность труда, и никогда сам продукт и его значимость не изымались так беззастенчиво и всецело, у тех, кто его создал. Никогда Homo faber не осознавал так отчетливо, что он вершит историю, и никогда не ощущал с такой полнотой свое бессилие перед нею.
Роль писателя в этой ситуации предопределена. В литературе всегда наличествует элемент отрицания, поэтому она будет выражать протест против отчуждения труда. Но литературе присуща и созидательная функция, поэтому она будет изображать отдельного человека как творческий акт, поможет ему преодолеть свое теперешнее отчуждение и продвинуться по дороге к лучшему будущему.
Признавая, что "обладать", "делать" и "быть" -ключевые категории человеческого существования, мы замечаем, что литература потребления изучает только взаимосвязи категорий "быть" и "обладать". Здесь ощущение тождественно с наслаждением, что абсурдно с философской точки зрения, а тот, кто лучше владеет искусством наслаждаться жизнью, признается в большей степени существующим. На всем пути следования от "Культуры собственного Я" до "Обладания мирозданием", через "Плоды земные" и "Дневник Барнабеуса" под словом "существовать" понимается "принадлежать себе". Если книга порождена таким сладострастием, она сама претендует на роль чего-то, что сулит наслаждение, и круг благополучно замыкается.
Что касается нас, то самой жизнью мы принуждены отражать взаимосвязи между "быть" и "делать" в современную эпоху. Есть ли человек то, что он делает? Есть ли он то, чем он становится? Есть ли вообще человек в нашем обществе с полностью отчужденным трудом? Что предпринять, какую цель поставить перед собой современному человеку? Какими средствами ее выполнять? Как определить связь цели и средства в обществе, пропитанном насилием?
Если книга поднимает такие вопросы, она не столько нравится, сколько раздражает и тревожит. Она выглядит трудной задачей, которую необходимо решить, она зовет к поискам без скороспелых заключений, предлагает принять участие в экспериментах с двусмысленным исходом. Тягостные вопросы не могут доставлять радость. Если такую книгу удается написать, она становится, скорее, чем-то неотступным, навязчивым. Она изображает мир, который требует не утонченного способа "видения", а изменений. Но прежний мир, истрепанный до дыр, перещупанный и перенюханный, ничего от этого не потеряет.
Начиная с Шопенгауэра, считается, что объекты можно воспринять во всей их самоценности, только если мы погасим в себе волю к власти. Они посвящают в свои тайны только праздное любопытство, писать о них разрешается только в том случае, когда нечего делать. Надоевшая описательность минувшего столетия означает отрицание утилитарности: мироздание не ощупывают руками, его осматривают в сыром, необработанном виде. Писатель отличается от идеолога буржуазии тем, что выбирает подходящее время для разговора о вещах, время, когда конкретные отношения разорваны, за исключением нити, тянущейся от зрачка, время, когда пучки тончайших ощущений распадаются без остатка. Это торжество впечатлений как таковых: впечатлений от Италии, Испании, Востока. Эти осознано воспринятые пейзажи литература предоставляет нам в двоякий момент. Уже закончен прием пищи и начато пищеварение. Субъективность уже отразилась на объективном мире, но ее кислоты еще не начали его разъедать. Поля и леса – это еще поля и леса, но одновременно и состояние души. Холодный полированный мир создан в произведениях буржуазных писателей. Это мир для. Он искренне дарит нам скромную радость или изысканную меланхолию.
Ознакомительная версия.