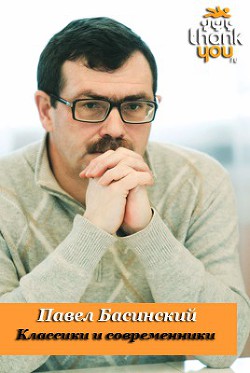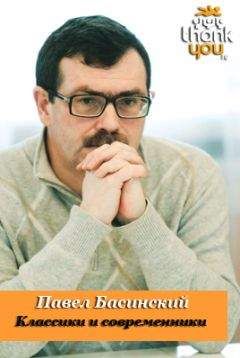Все верно. Но почему-то сегодня от ерофеевской «круглой» правоты разит нафталином. Литературные аналогии отомстили и ему: он жутко напоминает Чацкого, который снова вернулся в Москву после, допустим, победы декабристов и неожиданно оказался героем. Чацкий посолиднел, чуть-чуть поглупел, женился на Софье, нажил капитал… Фамусов и Скалозуб ходят перед ним на цырлах. И вот, по просьбе друзей и общественности, он пишет мемуары на тему «как меня травило фамусовское общество». И конечно, презентацию сего сочинения готовит лично Фамусов. (Ерофеев: «Недавно позвонили: в Москве организуется большой вечер «МетрОполя». Кто будет его вести? Как кто? Те, кто больше всех терзал «МетрОполь»!») Ах, бедный Чацкий!
Я не верю в искренность Ерофеева. Даже лексика выдает его с головой: он ругает своих гонителей теми же словами, что слышал от них 12 лет назад: «валяют дурака», «блатная доверительность», «бандитская логика», «контрразведчицы от литературы» и т. п. Зачем? А надо же продлить жизнь легенде, которая удалась. Старый король переводит стрелки на часах, стараясь оттянуть конец бала, но Золушке от этого не легче. Наряды все равно потускнеют, карета станет тыквой, а рысаки — мышами.
Торопись, Золушка! Сегодня мне кажется, что было бы лучше, если б «МетрОполя» и в самом деле не было. Как текста. Что такое «МетрОполь» как текст? Обыкновенный и хороший альманах «левой» литературы. Не больше и не меньше. Интересно, что мог бы сказать о «МетрОполе» независимый критик, если бы ему предоставили слово тогда, в конце 70-х? Ну, например, что «душа» альманаха Василий Аксенов написал все-таки плохую пьесу, странную помесь поздней драматургии Маяковского с его лобовой социальностью и театра абсурда. Что хорошие стихи дали Рейн и Карабчиевский, притом хорошие безотносительно к общему содержанию книги. Что последние песни Высоцкого «Лукоморье…», «Охота на волков», «Банька по-белому», «Диалог» («— Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!») с их высоким и светлым пессимизмом — безусловно, лучшее из всего, что им написано и спето. Что проза ленинградца Петра Кожевникова — честный вариант молодежной прозы тех лет, без БАМов и прочей ерунды, но не больше того. Что Фридрих Горенштейн после изумительного рассказа «Дом с башенкой» («Юность», 1964, № 6), которая, на мой взгляд, до сих пор остается образцом исторической прозы, пошел куда-то не туда, в своеволие и метафизику, прочь от божественной ясности. Что Белла Ахмадулина — волшебный поэт и слабый прозаик, безнадежно испорченный Набоковым. Можно сколько угодно называть ее манерный стиль «прозой поэта», но никто никогда не докажет, что описывать половое возбуждение собаки словами: «На исходе этой осени к Ингурке впервые пришла темная сильная пора, щекотно зудящая в подхвостье, но и возвышающая душу для неведомого порыва и помысла», — это хорошо. Что «Ядреню Феню» Виктора Ерофеева со всеми этими «сосать» и «нюхать» элементарно нельзя читать, не преодолев известного порога брезгливости. Я допускаю, впрочем, что Ерофеев именно этого и добивался: показать скотскую природу человека, чтобы отделить ее от человеческой. Но это его проблемы. И, наконец, что лучшим произведением сборника является шедевр Фазиля Искандера «Маленький гигант большого секса». Между прочим, вполне традиционный рассказ, восходящий к «Декамерону», к «Шинели», — чистый, глубокий, трагический, победоносный…
Вот это (а может быть, и нечто совсем обратное) могла бы сказать тогда, в 70-е, критика. Сегодня в этом нет смысла. Поезд ушел и давно прибыл на конечную станцию. Что толку задним числом обсуждать маршрут, а тем более — ругать стрелочников? «МетрОполь» сегодня интересен только в качестве мифа или «исторического памятника».
История взаимных отношений между русской литературой и цензурой бесконечно разнообразна и привлекательна. Уже сегодня она волнует эстетическое чувство несхожестью с современной литературной ситуацией; в будущем это ощущение дистанции станет еще напряженнее, болезненнее.
Русская литература выросла в подцензурных условиях, то есть, государство ежечасно, ежеминутно держало ее в поле зрения, как младенца, каждое бесконтрольное движение которого чревато катастрофой, причем не только для него, но и для всей семьи, дома (зажег спичку, включил газ, разбил градусник). Государство было по-своему право: смена любого общественного строя предварялась литературными событиями; в этом особенность России, и «МетрОполь» не исключение в этом ряду.
Николай I, начертавший на рукописи пушкинского «Годунова»: «Переделать в роман в стиле Вальтера Скотта» (апокриф). Что на это возразить? Что царь был не прав? Но всякая неправота предполагает возможность исправления, а здесь поправить нечего: настолько все кругло, ясно и священно. Как в сказке: пойди туда, не знаю куда… А вот пародийное отражение апокрифа ровно век спустя: Сталин пишет на горьковской поэме резолюцию:
«Эта штука посильнее «Фауста» Гете…» И снова — нечего возразить, ибо это не жизнь, а «литература», продраться сквозь которую к реальности нельзя. Поставьте эксперимент: произнесите четко, вслух в пустой комнате: «Эта штука («Девушка и смерть») будет послабее «Фауста»…», — и вы поймете, о чем речь.
Более демократический вариант мифа: Некрасов и история «Современника». Со школьной скамьи известно, что «Современник» боролся с царизмом, а царизм — с «Современником». Смышленый советский школьник задавал себе вопрос: а почему, собственно, царизм не уничтожил «Современник», немедленно и на корню? Значит, царизму зачем-то был нужен «Современник»! И тем более, «Современник» без царизма просто немыслим. Позже, интересуясь судьбой Некрасова, я понял, что вживе дело обстояло еще сложнее.
«Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными. На них собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них, постоянно бывал приглашаем цензор… Некрасов разливал суп в голове длинного стола, Панаев в хвосте накладывал щи» (из воспоминаний Н. Г. Чернышевского).
Читая это, невольно по-розановски защелкаешь язычком:
«— Те-те-те… Что-то здесь не так!» Розанов: «Я раскрыл толстый том. И увидел, что «Цензурный устав» составляет какую-то 2-ю часть каких-то «Полицейских правил», «Устава благочиния» и прочей, как мне казалось, мерзости.
— Те-те-те… Я забыл тему разговора с Катениным, все всматривался в ТОМ и его СТРОЕНИЕ» («Мимолетное»).
И, наконец, — совершенно потрясающий факт, духовную глубину которого, честно говоря, не могу освоить. Когда Гоголь писал 2-й том «Мертвых душ», С. Т. Аксаков, памятуя цензурные препятствия во время выхода первого тома, советовал Гоголю представить рукопись царю. На это Гоголь ответил, что, не добиваясь высочайшего разрешения, будет исправлять рукопись до тех пор, «пока всякий глупый, привязчивый цензор не пропустит ее без затруднения». Аксаков был поражен.
Отношения между литературой и цензурой в XX веке изменились по существу, а именно: вступили в период безлюбовности, потеряли оттенок «домашности». Пирамидальная система власти, механически и бездарно восстановленная Сталиным (отсюда и пародийность его надписи на горьковской поэме), перестала «дышать»; и это, в частности, выразилось в том, что цензура как целая отрасль российской жизни осталась без лица, точнее, без лиц. Цензор стал напоминать гоголевского ревизора или «Некто в сером» Леонида Андреева: его никто не видит, но все о нем знают.
Платонов, получив законный (с точки зрения власти) отказ в издательстве «Федерация», не прячет «Чевенгур» в стол, а посылает его Горькому, чем ставить пролетарского писателя в довольно щекотливое положение. Серафимович пробивает Шолохова в «Октябре». Фадеев по наивности печатает «Усомнившегося Макара», за что получает взбучку от самого Сталина. Сталин играет в кошки-мышки с Булгаковым.
А вот сцена, достойная пера Бродского и Налбандяна. Хрущева на даче знакомят с «Одним днем Ивана Денисовича»: «Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и крякал, а со средины потребовал позвать Микояна слушать вместе» («Бодался теленок с дубом»).