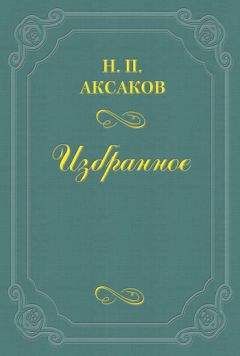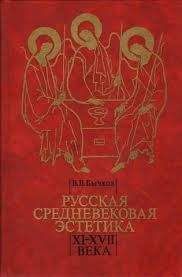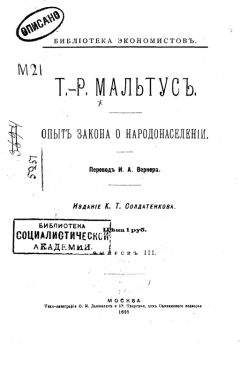Кто пойметъ, чѣмъ я занятъ, почему меня тянетъ
Пѣть въ родимой деревнѣ;
Нѣтъ, бряцая струнами передъ Богомъ во храмѣ,
Предъ народомъ въ харчевнѣ.
Эту-то нравственную причину любви къ родному краю и родному народу и анализируетъ Сырокомля, можетъ бытъ, глубже, чѣмъ-какой бы то ни было другой поэтъ. Разумѣется, анализъ этотъ не является у него нигдѣ въ видѣ сколько нибудь округленнаго философскаго трактата, и мы, для представленія чувствъ и мыслей его во всей полнотѣ, должны коснуться отдѣльныхъ мѣстъ нѣсколькихъ различныхъ его произведеній.
Прежде всего признается самъ Кондратовичъ, что въ природѣ излюбленнаго края точно такъ же, какъ и въ особенностяхъ его народа, нѣтъ ничего, чтобы одною уже своею внѣшностью невольно приковывало бы чей бы то ни было взглядъ, невольно заставляло бы себя любить; что любовь въ нему можетъ объясняться никакъ не магическою силой внѣшняго впечатлѣнія, роскошью внѣшнихъ красокъ и т. п. Внѣшній взоръ магически не поражается скудною самой по себѣ природою, а возможность внутренняго взгляда существуетъ только для того, кто уже любитъ. Это, такъ сказать, первое положеніе, первый тезисъ, изъ котораго выходятъ убѣжденія нашего поэта.
О, Литва моя святая, о, мой край родной!
Милы мнѣ твои пустыни, твой просторъ глухой!
Неприглядно и непышно смотритъ глушь твоя, —
Не напомнишь ты собою южные края,
Гдѣ въ поляхъ земнаго рая роскошь и краса,
Гдѣ оливою и миртомъ заросли лѣса,
Гдѣ въ сіяющей лазури тонутъ выси горъ
И чаруютъ красотою пораженный взоръ.
……
Нѣтъ, въ тебѣ, мой край родимый, нѣтъ такихъ красотъ;
Небеса твои безъ блеска, сумраченъ твой видъ;
И очей питомца юга онъ не поразитъ….
Не сверкаетъ въ водопадахъ рѣкъ твоихъ волна,
А въ лѣсахъ твоихъ осина, ольха да сосна;
Неотесаны и грубы бревна избъ твоихъ;
Ветхи кровли изъ соломы, мохъ ростетъ на нихъ,
А подъ кровлями твоими простъ и дикъ народъ,
На него взглянувши скажутъ: трехъ не перечтетъ.
Въ началѣ другой поэмы, рисуя съ большею подробностью природу еще болѣе скудную, Сырокомля говоритъ:
Порой какъ призракъ видитъ задумчивый мой взоръ
Необозримыхъ окомъ твоихъ болотъ просторъ,
Твоихъ лѣсовъ угрюмыхъ дремучій, темный кровъ,
Извилистыя рѣки межъ ивъ и тростниковъ,
Крылатыя дружины докучливыхъ слѣпней
И мотыльковъ зеленыхъ межъ листьевъ и вѣтвей.
……
Какую-то встрѣчаю я тайную красу
Въ пескахъ Полѣсья желтыхъ и въ сумрачномъ лѣсу,
И въ хатахъ деревенскихъ убогихъ и кривыхъ,
Въ церквахъ, соломой крытыхъ, среди погостовъ ихъ,
Что покривленныхъ елей сводъ темный осѣнилъ,
Гдѣ маленькая хата надъ каждой изъ могилъ,
Гдѣ съ пепломъ старыхъ предковъ въ могилахъ здѣсь и тамъ
Потомковъ поздній пепелъ смѣшался пополамъ.
Да! Скудна и неприглядна въ дѣйствительности эта природа, и, тѣмъ не менѣе ее любитъ и любитъ, можетъ быть, сильнѣе многихъ поэтъ-художникъ съ строго развитымъ художественнымъ чувствомъ и требованіями. Это, такъ сказать, первое положеніе, первый тезисъ, изъ котораго выходятъ и развиваются убѣжденія нашего поэта. Но, само по себѣ, положеніе это заключаетъ въ себѣ непреоборимую, съ перваго взгляда, трудность, таинственную, съ перваго взгляда, загадку. Началомъ разгадки, является слѣдующее; глубоко прочувствованное стихотвореніе:
А кресты погостовъ сельскихъ и бесѣдки
На могилахъ бѣдныхъ, мхомъ густыхъ цвѣтущихъ?
А колонны храмовъ, что воздвигли предки,
Призракомъ былаго царственно встающихъ?
А воспоминанья, о минувшемъ тризна?
Какъ назвать все это? это все – отчизна!
И животныхъ кости и цвѣтокъ пустынный,
Игры ребятишекъ, старца посохъ длинный,
Рабскія оковы, что въ подвалахъ дѣдовъ
Находили внуки, какъ наслѣдье шведовъ;
Ключъ воды студеной, горлицъ воркованье,
Въ кубкѣ медъ янтарный, лютни трепетанье,
Лѣтопись событій, съ простодушнымъ складомъ,
Дымъ надъ кровлей хаты, надъ зеленымъ садомъ,
Даже сны, что снились сказкой невозможной,
Свѣжій дернъ зеленый, камень придорожный,
Все, что сердцу свято и неязъяснимо,
Чѣмъ душа порою смущена, томима,
Тайное страданье, слово укоризны —
Это все зовется именемъ отчизны. (Пер. Д. Минаева).
Мы не могли удержаться, чтобы не привести цѣликомъ это вылившееся изъ самой глубины души поэта нашего стихотвореніе, такъ какъ оно представляетъ собою чуть ли не оглавленіе всего поэтическаго его труда, перечень всего, что когда-либо было вдохновляющимъ мотивомъ его творчества и что въ конечномъ заключеніи, въ куполѣ своемъ сводится къ одному магическому слову – отчизна. Не отъ этого ли слова и получаетъ изящество все исчисленное? Что за красоту представляютъ, сами по себѣ, могильный камень, кость допотопнаго животнаго, источникъ воды, поднимающійся надъ кровлею дымъ или случайно найденный внукомъ обрывокъ цѣпи во мракѣ дѣдовскаго подземелья? Но какое значеніе, какую красоту получаютъ они въ общей художественной картинѣ, освѣщенные нравственнымъ, творческимъ духомъ! Природа, какъ область физическаго разслѣдованія, и исторія, сдѣлавшаяся добычею археолога, не представляютъ сами по себѣ никакихъ самостоятельныхъ красотъ; красота сообщается имъ только эстетическимъ нашимъ сознаніемъ. Мы не станемъ въ настоящее время разрѣшать труднаго вопроса о томъ, можетъ ли существовать эстетическій идеалъ помимо и независимо отъ нравственнаго, въ утвердительномъ рѣшеніи котораго мы сами сомнѣваемся, такъ какъ, по нашему убѣжденію, эстетика представляетъ только условія красоты, а сущность ей цѣликомъ принадлежитъ къ области нравственнаго міра. Въ настоящемъ случаѣ ясно, помимо всякаго рѣшенія этого вопроса, что отпечатокъ красоты налагается на природу только совершенно особеннымъ къ ней, нравственнымъ отношеніемъ. Какъ простой объектъ глаза, она скудна, жалка, можетъ быть, непривлекательна, но какъ часть одного общаго представленія объ отчизнѣ, она получаетъ красоту изумитѣльную въ общей художественной картинѣ. Отвлечься всецѣло отъ всего, непроизвольно налагаемаго нами на внѣшнюю природу – значитъ видѣть въ ней геометрическій или геодезическій планъ, но мы, къ счастію, даже и не можемъ до такой степени изкалѣчить въ себѣ собственную природу, до такой степени уничтожить въ себѣ слѣды нравственнаго міра. Всѣ мы остаемся волею или неволею, болѣе или менѣе поэтами и, какъ таковые,
Даемъ вѣкамъ мы голосъ стройный,
Творенью мертвому языкъ.
Нашъ русскій поэтъ такъ характеризуетъ свою любовь къ русской природѣ:
Люблю отчизну я, но странной любовію;
Не побѣдитъ ея разсудокъ мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданія
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.
Но я люблю – за что не знаю самъ —
Ея степей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телегѣ
И, взоромъ медленнымъ прощая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ
И на холмѣ, средь желтой нивы —
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Природу «печальной отчизны» любитъ поэтъ только какъ фонъ, пейзажъ собственной души, внѣшній отсвѣтъ собственнаго своего духа. Чужеземецъ никогда не можетъ вполнѣ оцѣнить и понять красоту природы какого бы то ни было края, потому что между его душою и этою природою никогда не можетъ быть истинной гармоніи. Любовь къ родинѣ не побуждаетъ, не приневоливаетъ, конечно, находить красивымъ то, что въ дѣйствительности лишено, чуждо красоты, но она сама собою открываетъ красоту, сокровенную «незримую для суетнаго ока.» Въ одномъ художественномъ стихотвореніи Плещеева глубоко вѣрно изображается это постепенное раскрываніе духовныхъ очей для созерцанія этой незримой для суетнаго ока красоты родной, русской природы, совершающееся по мѣрѣ того, какъ человѣкъ живетъ, дѣйствительною, внутреннею жизнью и отражаетъ внутренній міръ свой на окружающемъ родномъ пейзажѣ.
Покинулъ я тогда завѣтную мечту
О сторонѣ роскошной и далекой
И въ родинѣ моей узрѣлъ я красоту,
Незримую для суетнаго ока.
Но, конечно, не географическое, скажемъ болѣе, даже не историческое, а исключительно только нравственное понятіе объ отечествѣ налагаетъ въ глазахъ нашихъ на всю внѣшнюю природу отпечатокъ возвышенной красоты и изящества. Но, чтобы быть нравственною, любовь къ отечеству должна быть не чѣмъ либо отвлеченнымъ, а являться звѣномъ въ общей цѣпи нравственныхъ чувствъ и понятій. Эту послѣднюю мысль опять полно и стройно развиваетъ Кондратовичъ и развиваетъ не мимоходомъ, а въ цѣлой особо посвященной развитію этой мысли поэмѣ.