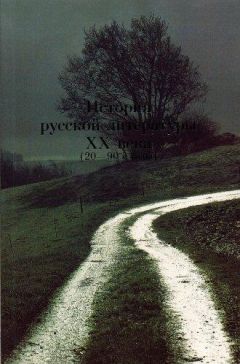Символизм, акмеизм, футуризм в чистом виде прекращают свое существование вскоре после 1917 г., однако их представители и наследники продолжают обновлять и обогащать литературу. Еще до революции критика заговорила о неореализме — реализме, впитавшем некоторые черты модернистских направлений. В 20–е годы советская критика возобновила разговор о синтетизме и новом реализме как синтезе реализма с символизмом, «романтизмом» и т.д. при доминировании реализма. Тем или иным образом эта проблематика затрагивалась в статьях В. Брюсова, Е. Замятина, А. Воронского, В. Полонского, А. Лежнева, А. Луначарского и др. Высказывания писателей и критиков не сводились к пожеланиям. Традиционные понятия, такие, как «романтизм», не приложимы без оговорок даже к не самому сложному творчеству А. Грина. И классический реализм XIX века после художественного опыта рубежа столетий уже не мог сохраниться ни в советской, ни в «задержанной», ни даже в литературе русского зарубежья. Картина мира усложняется, судьбы человека и человечества выглядят трагичнее, в чем нельзя не видеть влияния не только жизни, но и литературы модернизма.
В. Набоков мог быть автором близкого к экспрессионизму «Приглашения на казнь» и других, внешне строго реалистических, но модернистских (в чем–то и постмодернистских) по глубинной сути романов с той же проблемой фатализма, что в «Приглашении на казнь», причем изменение в поэтике не диктовалось изменениями мировоззрения. И. Бунин и Б. Зайцев — реалисты с сильной примесью импрессионистичности и «символичности», особенно первый, Д. Мережковский, всегда шедший от готовой идеи, в «романах» эмигрантского периода сделал свой иллюстративизм еще более очевидным.
И. Шмелев, до революции отнюдь не идеализировавший Россию («Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана»), убедительно показавший причины ухода в революцию униженного молодого человека, благородного духом (сына официанта Скороходова), стал в эмиграции, к во многом и Б. Зайцев, «бытописателем русского благочестия» (по словам архиепископа чикагского и детройтского Серафима). В его центральном произведении «Лето Господне» (1934–1944) отношения хозяина–подрядчика (отца автобиографического героя) и его работников, по мысли писателя, близки к идиллическим (хотя «реальная критика» могла бы выявить в тексте немало менее лестного для Сергея Ивановича, обожаемого «папашеньки»), а увиденный детскими глазами мир Замоскворечья 1880–х годов так чист и светел, что даже тараканы в родном доме описаны с нежностью: «С пузика они буренькие в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что–то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком» (и понюхать надо). «У нас их много, к прибыли — говорят». Ласково спугнутые старой Домнушкой, «как цыплятки», они «тихо уползают», видимо, проявляя приличествующую этому дому степенность. И. Ильин безоговорочно признавал шмелевские описания адекватной картиной «святой Руси», Г. Адамович сомневался в этом: «Была или не была (Русь такой. — Авт.), — все равно: должна была быть! Проверять теперь поздно…» — но, главное, отмечал, что Шмелев не приемлет никакой другой России, а только ту и «притом только в этой оболочке».
Шмелевская художественная «борьба за прошлое» (Г. Адамович), во всяком случае тональность рисуемых картин и человеческих отношений представляет собой идеализацию, говорит об изрядной доле «нормативности» в методе писателя. Но Шмелев исключительно честен как художник. Переживший после гражданской войны расстрел горячо любимого единственного сына, страшные душевные и физические страдания, совместные с многими тяготы, описанные им в «Солнце мертвых» (1923), Шмелев как никто другой имел моральное право любовно описывать старую Россию. Его идеализация была обращена в прошлое, уже не существующее, и тем коренным образом отличалась от «пасторального романтизма» (по выражению Ф. Абрамова) советских колхозных романов послевоенных лет, где беспардонно приукрашивалось даже не светлое будущее, еще не наступившее, но тяжелейшее настоящее.
В литературе России 20–30–х годов и в эмигрантской исследователи находят разные художественные методы и принципы отражения, например, с завидной ясностью относят к «критическому реализму» творчество В. Вересаева, И. Шмелева, С. Сергеева–Ценского, М. Алданова, И. Одоевцевой, Н. Берберовой и др., к натурализму — Артема Веселого, к «романтизму» — футуризм и левое искусство (В. Маяковского, Н. Асеева, Б. Пастернака, И. Северянина и др.), всю пролеткультовскую поэзию (воинствующе антиличностную и тем самым антиромантическую), к экспрессионизму — М. Булгакова, А. Платонова, Е. Замятина, Ю. Олешу, Ю. Тынянова, молодого В. Каверина, А. Грина, к импрессионизму — А. Белого, Б. Пильняка, О. Мандельштама, к примитивизму — поэзию Д. Бедного и «Падение Дайра» А. Малышкина. В другой работе оптимистический футуризм и отчасти проза Горького (рассказ «Рождение человека») рассматриваются как «авангард», а «странная проза» 20–30–х годов — К. Вагинова, Л. Добычина, С. Кржижановского, Д. Хармса, А. Платонова («Чевенгур») - как его полюс, «поставангард» («фило–софско–эстетический мистицизм»): «Если авангард — форма художественного воплощения рационального, основанного на доверии к разуму способа мировосприятия… то поставангард — это ответ на неудачу мышления и деятельности человека, стремящегося к общему счастью, но не знающего пути к счастью «частного» человека… В экзистенциальном плане он обнаруживает неспособность автора–творца имманентно и свободно пережить все богатство и ценности жизни. В эстетическом плане его характеризует кардинальная переоценка знаков внешнего и внутреннего, повлекшая изменения в поэтике по сравнению с реалистическим искусством. Поставангард завершил процесс дегуманизации искусства, начавшийся не столько под влиянием роста промышленной мощи, сколько под воздействием потери человеком прежних духовных оснований бытия». Безусловно, даже у таких непохожих художников, как Замятин, Булгаков и Платонов, могут быть общие черты, в том числе экспрессионистичностъ (но вряд ли экспрессионизм как цельный метод). Можно и рассматривать Платонова как поставангардиста наряду с Вагиновым и Хармсом. Но не стоит полностью отлучать его от реализма, как и Булгакова, и вообще пытаться однозначно, игнорируя «синтетизм», определить его основной художественный принцип, метод. В статье «О первой социалистической трагедии» (1934), ратуя за гуманизм (а не за дегуманизацию), Платонов писал о трагедии преодоления «собственной убогости» — трагизм этого процесса (в изложении историка критики) в том, «что он необычайно медленен, духовность человека не поспевает за развитием техники: «Сам человек меняется медленнее, чем он меняет мир. Именно здесь центр трагедии…» Разрешение этой трагедии писатель связывал с соцреалистическим идеалом». Приведенная цитата и комментарий исследователя уточняют мнение другого литературоведа, писавшего, что Платонову «был близок и дорог живой социальный почин, Но — при одном условии: если этот почин был органичен, шел от внутренней потребности народной жизни, а не был следствием социального принуждения». В том–то и дело, что противник социального принуждения Платонов и «внутреннюю потребность народной жизни» считал совершенно недостаточной, неразвитой. Отсюда парадоксальное сочетание в его прозе утопии и антиутопии, вообще парадоксальность — явная низменность, примитивность, комизм и потаенная возвышенность неявная сложность, трагизм его художественного мира. Ни платоновский, ни булгаковский, ни ахматовский, ни пастернаковский, ни мандельштамовский художественный метод нельзя определить одним словом или понятием. Это разные творческие принципы, зачастую во многом реалистические, но и непременно «универсалистские», воссоздающие мир в его глобальных общечеловеческих, природных, космических и «запредельных» закономерностях.
В 1932 г. возникло понятие «основного метода советской литературы» — «социалистического реализма». Задним числом, но небезосновательно к нему были отнесены и многие более ранние произведения начиная с «Матери» Горького. Первоначально некоторые критики стремились сделать это понятие предельно широким и как бы адогматичным, отнюдь не сводимым к одному методу и стилю. А. Луначарский (доклад «Социалистический реализм», 1933): «Социалистический реализм есть широкая программа, она включает много различных методов, которые у нас есть, и такие, которые мы еще приобретаем…» А. Лежнев (из книги «Об искусстве», 1936): «Социалистический реализм не является стилем в том ограниченном смысле, в каком является им символизм или футуризм. Это — не школа с разработанным до мелочей художественным кредо, обладательница чудодейственного секрета, исключительная и нетерпимая по своей природе. Это широкая, открытая в большую даль времени установка, способная совместить в себе целую радугу школ и оттенков. Ее следует сравнить скорее с искусством Ренессанса, которое, при общности основных устремлений, являло огромное разнообразие манер и направлений». Но этих критиков не послушались. Опальный Луначарский умер в том же году, а Лежнева через два года после выхода его книги «Об искусстве» расстреляли.