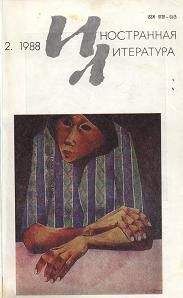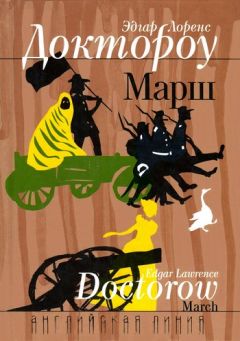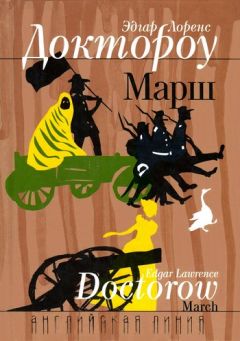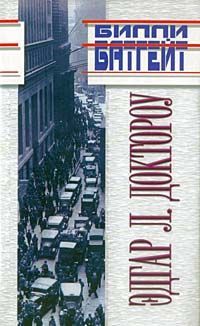Теперь пора вернуться к моему тезису о диагностирующей и познавательной роли современной художественной литературы. Когда завершается эпоха и ее традиционные культурные символы теряют свое значение, человек остается совершенно обнаженным, что крайне неприятно для него, но зато очень познавательно для желающих внимательно изучить его, а на самом деле себя. И по самой природе предмета, и по способу его осмысления — это область искусства, в особенности литературы, а не естественных наук.
И не случайно направление в современной литературе, смыкающееся с направлением европейской философской мысли, экзистенциализмом, имеет аналогичное название. И философия Кьеркегора, и романы Достоевского рассматривают не человечество, а человека как такового, каким-то образом изолированного от окружающего мира и общества, где и философия, и литература считаются абсурдными или даже отмирающими. Такой человек понимается как отчужденный от культуры, но не как некая абстракция, не как особь homo sapiens, отчужденная, пригвожденная к столу препаратора, подобно какому-нибудь налиму, а как личность, помещенная во времени, в пространстве, ситуации. Тема романа может не затрагивать его состояния, но сложность его положения не менее ясна и ощутима, чем сложность положения Андрея Болконского, раненного на поле Бородинского сражения. Герой может сидеть одиноко в кафе, слушая беседы буржуа в Бувиле, героиня может колесить по стране или уединяться с абсолютно незнакомым человеком в мотеле, как в романе Джоан Дидион. В любом случае в этих серьезных произведениях исследуется не лицемерие буржуазии или лос-анджелесские пустоши, а сложности, испытываемые героями. Следовательно, исследуются или должны исследоваться не только природа этих сложностей, но и возможность или невозможность поиска сигналов и общих понятий. В зависимости от взглядов писателя сигналы могут быть как двусмысленными, так и бессмысленными, но что-то, возможно, будет воспринято; стук в стену услышат и ответят на него.
Суть в том, что вся художественная литература может быть использована как средство исследования и открытия, короче говоря, научного подхода. В наступившую эпоху всеобщего обесценивания и обессмысливания прерогативой романиста является возможность начать новый поиск, подобно Робинзону Крузо на необитаемом острове.
Может статься, лишь романисту или поэту будущего удастся понять, что происходит с человеком и каковы его взаимоотношения с окружающими.
Зверев Алексей. Необходимый скепсис
Любой диалог требует представления собеседников. Не будем отступать от традиции.
Имя Эдгара Лоренса Доктороу нашим читателям известно. Многие, вероятно, помнят его «Рэгтайм», произведение, поразившее тогда еще не приевшейся поэтикой «ретро», при помощи которой был воссоздан коллективный портрет Америки 1906 года.
До «Рэгтайма» в биографии Доктороу была «Книга Дэниэла» (1971), роман о «деле Розенбергов»— немолодой супружеской четы, в годы маккартистских беззаконий казненной по недоказанному обвинению в государственной измене. Пристрастие к изображению социальной истории и в будничном течении, и в резких, подчас болезненных переломах с самого начала сделалось важной особенностью творчества Доктороу. Ему интересен ход истории, а не частные судьбы, сложно им опосредованные. Случаются у писателя удачи и неудачи, однако в последовательности установок Доктороу не откажешь.
Он неизменно верен своей проблематике, как, впрочем, и поэтике, основывающейся на широком использовании фактографического материала, на реконструкции атмосферы изображаемого времени во всех его характерных чертах и даже мелких подробностях. На минимуме психологизма. На жесткой предопределенности каждой человеческой биографии теми крупными общественными противоречиями, которые создают облик эпохи.
Так написаны «Книга Дэниэла», и «Рэгтайм», и «Гагачье озеро» (1980), где предпринята попытка на сжатом повествовательном пространстве охватить главные коллизии 30-х годов, по убеждению Доктороу, завязавшие узлы всей последующей американской истории.
Теперь 30-е годы вспоминают в США скептически. Говорят о несбывшихся надеждах, о политической наивности. Отчасти такие взгляды разделяет и Доктороу. Но его позиция сложная и ближе к истине. Полвека спустя идеалы того десятилетия кажутся ему несколько схематичными, а все-таки это было время общественного и духовного подъема — не то что нынешний период апатии и скепсиса. Оттого Доктороу и возвращается к 30-м годам снова и снова. Во «Всемирной выставке» (1985) они показаны уже без чрезмерно резкой контрастности, которая отличает прежние его романы. Метафоры становятся и сложней и прихотливей. Многоцветье реальности корректирует не в меру сухую логику развития конфликтов.
Статья, с которой познакомился читатель, вобрала в себя индивидуальный творческий опыт Доктороу. Она нескрываемо субъективна и по мыслям, и по оценкам. У писателя по-другому быть и не может. Уокер Перси не менее пристрастен: тут не столько литературоведение, сколько авторское исповедание, но как раз неожиданностью взгляда оно и интересно.
О Перси надо сказать чуть подробнее, поскольку у нас его пока не знают. Ему семьдесят один год, но литературный стаж Перси не так велик. «Кинозритель», первый его роман, вышел в 1961 году. Поздний дебют был замечен и по достоинству оценен: книга получила Национальную премию по литературе.
«Кинозритель» был точным диагнозом опасного общественного заболевания. Перси раньше других почувствовал, какие опасные формы начинает принимать в США процесс стандартизации личности, и написал об этом ярко, нешаблонно. Вместе с тем и эта книга, для большинства критиков, оставшаяся лучшей у Перси, заключала в себе сконструированность ситуации, хотя внешне и обладавшей всеми приметами конкретики. На поверку ситуация была довольно искусственной, умозрительной.
Герой Перси — и это станет характерно для всех его книг — кажется выхваченным из толпы, но помимо такого рода типажности он отмечен еще и обязательными чертами духовного скитальца, экзистенциалистского бунтаря. Потаенно в этом законченном конформисте живет существо, отчужденное от общества, способное к безоглядным саморазрушительным жестам неприятия, подчас выражающегося в актах прямого аморализма.
Странный симбиоз! Он не перестает удивлять читателей Перси — и в «Последнем джентльмене» (1966), и в «Ланселоте» (1976), и во «Втором пришествии» (1980), романах очень разных по материалу, но всегда рисующих, собственно, один и тот же человеческий тип. Сам Перси называет своих центральных персонажей искателями, заявляя, что «поиск — это нормальное состояние человека». Как отвлеченный тезис его мысль вряд ли вызовет возражения, но суть дела в том, какой целью вдохновляется искательство, владеющее помыслами людей, им изображенных.
Все они нуждаются хотя бы в иллюзии свободного выбора собственной судьбы. Привыкшим к норме они кажутся психопатами и выродками. Но в действительности тут попытка — ущербная, конечно, а иногда просто губительная — противостоять тому, что Перси назвал «обесцениванием жизни», подразумевая сытое, беспечальное существование, которому вообще неведомы ни поиски, ни страдания, ни заблуждения мятущейся души.
С героями своих романов Перси чаще спорит, чем соглашается, да это и неудивительно. Перси — католик, тогда как его персонажи большей частью оказываются на грани нигилизма. Перси — южанин, то есть наследник стойкой этической традиции, для которой первостепенной важностью обладает понятие «чести», как бы причудливо оно ни толковалось на практике, о чем мы хорошо знаем из книг великого южанина Фолкнера. Перси — усердный читатель Достоевского, и не просто читатель, а в каком-то смысле даже продолжатель, хотя, попробовав воспроизвести в «Последнем джентльмене» проблематику «Идиота», он потерпел фиаско.
Наконец, Перси — врач по образованию, и свое писательское назначение, вообще призвание современного романа видит в диагностировании вирусов, порождающих болезни общества и культуры. Бунтарские побуждения собственных персонажей он тоже опознает как вирус такого рода. Но все же не отказывает им в искренности поиска. Поиск создает хотя бы отдаленную надежду на обновление. Когда поиска нет, очерчивается только перспектива дальнейшего обесценивания и без того изуродованной жизни.
Если прочесть роман Перси вслед роману Доктороу или наоборот, возникает ощущение, что перед нами писатели, не имеющие ничего общего друг с другом. Действительно, уж слишком бросаются в глаза различия. Доктороу — художник, старающийся изображать сущность общественных процессов, давно предпочитающий живописи графику и не слишком интересующийся индивидуальными особенностями одиночек. У Перси внимание сосредоточено как раз на индивидуальности, которая отнюдь и не выступает как знамение тех или иных социальных трансформаций.