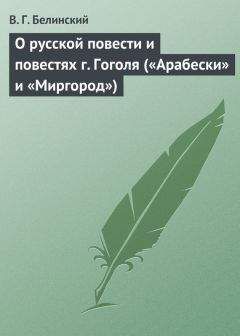Следуя хронологическому порядку, я должен теперь говорить о повестях г. Погодина. Ни одна из них не была историческою, но все были народными, или, лучше сказать, простонародными. Я говорю это не в осуждение их автору и не в шутку, а потому, что, в самом деле, мир его поэзии есть мир простонародный, мир купцов, мещан, мелкопоместного дворянства и мужиков, которых он, надо сказать правду, изображает очень удачно, очень верно. Ему так хорошо известны их образ мыслей и чувств, их домашняя и общественная жизнь, их обычаи, нравы и отношения, и он изображает их с особенною любовию и с особенным успехом. Его «Нищий», так естественно, верно и простодушно рассказывающий о своей любви и своих страданиях, может служить типом благородно чувствующего простолюдина. В «Черной немочи» быт нашего среднего сословия, с его полудиким, получеловеческим образованием, со всеми его оттенками и родимыми пятнами, изображен кистью мастерскою. Этот купец, который так крепко держит в ежовых рукавицах и жену и сына, который, при миллионах, живет, как мужик, который чванится своим богатством, как глупый барин своим дворянством, который, по прочтении реестра приданого, говорит, что «божьего-то благословения маловато», который, наконец, убивает родного сына, из родительской любви, и боится, как дьявольского наваждения, всякой человеческой мысли, всякого человеческого чувства, чтоб не погрешить против «чистейшей нравственности», которой держались столько столетий его отцы и праотцы; эта купчиха глупая и толстая, которая так боится кулака и плети своего дражайшего сожителя, что не смеет, без его спросу, выйти со двора, не смеет сказать перед ним лишнего слова и даже затаивает, в «его присутствии, свою материнскую любовь к сыну; эта попадья, то бранящая батрака и распоряжающаяся на погребе, то, мучимая женским любопытством, подслушивающая сквозь замочную щель разговор своего мужа с купчихою, то продирающая пальцем дырочку на кульке, принесенном ей купчихою, чтобы узнать, что в нем обретается; эта сваха Саввишна, эта всемирая кумушка, сплетчица и сводчица, без которой русский человек, бывало, не умел ни родиться, ни жениться, ни умереть, которая торгует счастием и судьбою людей точно так же, как лентами, запонками и шерстяными чулками, которая так мило увеселяет площадными экивоками честное компанство бородатых миллионщиков; эта невеста, «девочка низенькая, но толстая-претолстая, с одутловатыми щеками, набеленная, нарумяненная, рассеребрянная, раззолоченная и всякими драгоценными каменьями изукрашенная»; наконец, это сватовство, эти споры о приданом, вся эта жизнь, подлая, гадкая, грязная, дикая, нечеловеческая, изображена в ужасающей верности; прибавьте сюда этого попа, который выражение самых священных, самых человеческих чувств своих располагает по правилам Бургиевой риторики и самую красноречивую речь свою прерывает выходкою против плута лавочника, отпустившего дурного масла на лампадку, который рукой сморкается и рукой утирается; потом этого юношу, аристократа по природе, плебея по судьбе, агнца между волками, – и вот вам полная картина одной из главных сторон русской жизни, с ее положительным и ее исключениями. Самый язык этой повести, равно как и «Нищего», отличается отсутствием тривиальности, обезображивающей прочие повести этого писателя. Итак, «Черная немочь» есть повесть совершенно народная и поэтически нравоописательная – но здесь и конец ее достоинству. Главная цель автора была представить гениального, отмеченного перстом провидения юношу в борьбе с подлою, животною жизнию, на которую осудила его судьба: эта цель не вполне им достигнута. Заметно, что автора волновало какое-то чувство, что у него была какая-то любимая, задушевная мысль, но и вместе с тем, что у него недостало силы таланта воспроизвести ее; с этой стороны, читатель остается неудовлетворенным. Причина очевидна: талант г. Погодина есть талант нравоописателя низших слоев нашей общественности, и потому он занимателен, когда верен своему направлению, и тотчас падает, когда берется не за свое дело. «Невеста на ярмарке» есть как будто вторая часть «Черной немочи», как будто вторая галерея картин в Теньеровом роде, картин, беспрерывно восходящих чрез все степени низшей общественной жизни и тотчас прерывающихся, когда дело доходит до жизни цивилизованной или возвышенной. Словом, «Нищий», «Черная немочь» и «Невеста на ярмарке» суть три произведения г. Погодина, которые, по моему мнению, заслуживают внимания! о прочих умалчиваю.
Одно из главнейших, из самых видных мест между нашими повествователями (которых, впрочем, очень немного) занимает г. Полевой. Отличительный характер его произведений составляет удивительная многосторонность, так что трудно подвести их под общий взгляд, ибо каждая его повесть представляет совершенно отдельный мир. Что есть общего или сходного между «Симеоном Кирдяпою» и «Живописцем», между «Рассказами русского солдата» и «Эммою», между «Мешком с золотом» и «Блаженством безумия»? Правда, этих повестей немного, и они не все одинакового достоинства, но можно сказать утвердительно, что каждая из них ознаменована печатию истинного таланта, а некоторые останутся навсегда украшением русской литературы. В «Симеоне Кирдяпе», этой живой картине прошедшего, начертанной могучею и широкою кистью, поэзия русской древней жизни еще в первый раз была постигнута во всей ее истине, и в этом создании историк-философ слился с поэтом. Прочие повести все отличаются теплотою чувства, прекрасною мыслию и верностию действительности. В самом деле, вглядитесь в них пристальнее, и вы увидите такие черты, схваченные с жизни, которые вы часто можете встретить в жизни, но редко в сочинениях, увидите эту выдержанность и оригинальность характера, эту верность положений, которые основываются не на расчетах возможностей, но единственно на способности автора понимать всевозможные положения человеческие, положения, в которых он сам, может быть, никогда не был и не мог быть. Профаны, люди, не посвященные в таинства искусства, часто говорят: «Да, это очень верно, да и не могло быть иначе – автор так много страдал, следовательно, писал по опыту, а не с чужого голоса». Мнение нелепое! Если есть поэты, которые верно и глубоко воспроизводили мир собственных, изведанных ими страстей и чувств, собственные страдания и радости, – из этого еще не следует, чтобы поэт только тогда мог пламенно и увлекательно писать о любви, когда был сам влюблен, о счастии, когда сам находится в благоприятных обстоятельствах, и пр. Напротив, это означает скорее односторонность и ограниченность таланта, нежели его истинность. Отличительная черта, то, что составляет, что делает истинного поэта, состоит в его страдательной и живой способности, всегда и без всяких отношений к своему образу мыслей, понимать всякое человеческое положение. И вот почему поэт так часто противоречит самому себе в своих созданиях, воспевая нынче прелести разгульной, эпикурейской жизни, завтра поет о живом труде, о подвиге жизни, об отречении от благ земных. Бальзак носит на фраке золотые пуговицы, трость с золотым набалдашником (последняя степень прихотливой роскоши), живет, как принц какой-нибудь, и между тем его картины бедности и нищеты леденят душу своею ужасающею верностию. Гюго никогда не был осужден на смертную казнь, но какая ужасная, раздирающая истина в его «Последнем дне осужденного»! Конечно, невозможно, чтобы обстоятельства жизни самого поэта не имели большего или меньшего влияния на его произведения; но это влияние имеет свое ограничение и бывает, по большей части, как бы исключением из общего правила. Эта способность понимать явления жизни очень не чужда г. Полевому. Сколько истины в его «Живописце» и «Эмме»! Детство художника, его бессознательное стремление к искусству, его любовь к пустой девчонке, его недовольство собственными произведениями, его безмолвное страдание при суждениях глупой, бессмысленной толпы о лучшем, задушевном его произведении, его отчаяние, когда он увидел в своем идеале не больше, как ребенка, который играл с ним в любовь; потом, этот старик-отец, всю жизнь недовольный сумасбродством любимого сына, проклинавший, может быть, от чистого сердца и его страсть к живописи и самую живопись и, наконец, пред смертию с умилением смотрящий на его последнюю картину и рыдающий, не понимая ее; теперь, эта мечтательная мещанка, существо святое и чистое, но не имеющее в нашей русской жизни никакого смысла, никакого значения, эта бедная девушка, перед которою подличает богатая и знатная графиня и которая, всею своею жизнию, возвращает жизнь сумасшедшему и потом требует, в свою очередь, всей его жизни, чтобы не умереть самой, и, вместо всего этого, видит с его стороны одно холодное уважение, а со стороны графини худо скрытое чувство неблагодарности, тон покровительства, который, для души благородной, хуже самого жестокого гонения, – все это не придумано, не разочтено, не вычислено, а вылилось прямо из души. «Блаженство безумия» отличается местами теплотою чувства, но и вместе с тем излишним владычеством мысли, как будто автор задал себе психологическую задачу и хотел решить ее в поэтической форме. От этого в ней как будто чего-то недостает; впрочем, много отдельных прекрасных мест.