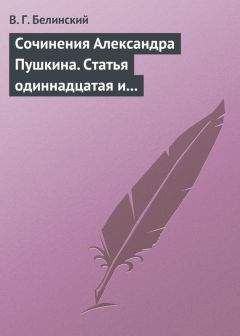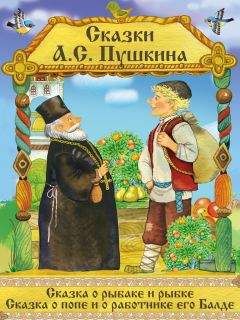Такие переводы, если они и близко верны подлинникам, стоят оригинальных произведений. Не потому ли на Жуковского у нас никто не смотрит, как на переводчика, хотя и все знают, что лучшие его произведения – переводы?
«Моцарт и Сальери» – целая трагедия, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощного гения, хотя и небольшая по объему. Ее идея – вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения. Есть организации несчастные, недоконченные, одаренные сильным талантом, пожираемые сильною страстью к искусству и к славе. Любя искусство для искусства, они приносят ему в жертву всю жизнь, все радости, все надежды свои; с невероятным самоотвержением предаются его изучению, готовы пойти в рабство, закабалить себя на несколько лет какому-нибудь художнику, лишь бы он открыл им тайны своего искусства. Если такой человек положительно бездарен и ограничен, из него выходит самодовольный Тредьяковский, который и живет, и умирает с убеждением, что он – великий гений. Но, если это человек действительно с талантом, а главное – с замечательным умом, с способностию глубоко чувствовать, понимать и ценить искусство, – из него выходит Сальери. Для выражения своей идеи Пушкин удачно выбрал эти два типа. Из Сальери, как мало известного лица, он мог сделать, что ему угодно, но в лице Моцарта он исторически удачно выбрал беспечного художника, «гуляку праздного». У Сальери своя логика; на его стороне своего рода справедливость, парадоксальная в отношении к истине, но для него самого оправдываемая жгучими страданиями его страсти к искусству, не вознагражденной славою. Из всех болезненных стремлений, страстей, странностей – самые ужасные те, с которыми родится человек, которые, как проклятие, получил он при рождении вместе с своею кровью, своими нервами, своим мозгом. Такой человек – всегда лицо трагическое; он может быть отвратителен, ужасен, но не смешон. Его страсть – род помешательства при здравом состоянии рассудка. Сальери так умен, так любит музыку и так понимает ее, что сейчас понял, что Моцарт – гений и что он, Сальери, ничто перед ним. Сальери был горд, благороден и никому не завидовал. Приобретенная им слава была счастием его жизни; он ничего больше не требовал у судьбы, – и вдруг видит он «безумца, гуляку праздного», на челе которого горит помазание свыше…
О, небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья.
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О, Моцарт, Моцарт!
Моцарт является со всею простотою, веселостью, шутливостью, с возможным отсутствием всех претензий, как гений, по своему простодушию не подозревающий собственного величия или не видящий в нем ничего особенного. Он приводит с собой к Сальери слепого скрипача-нищего и велит ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Сальери в бешенстве на эту профанацию высокого искусства. Моцарт хохочет, как шаловливый ребенок, потом играет для Сальери фантазию, набросанную им на бумагу в бессонную ночь, – и Сальери восклицает в ревнивом восторге:
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь,
Я знаю, я!..
Моцарт отвечает ему наивно:
Ба! право? может быть…
Но божество мое проголодалось.
Заметьте: Моцарт не только не отвергает подносимого ему другими титла гения, но и сам называет себя гением, вместе с тем называя гением и Сальери. В этом видны удивительное добродушие и беспечность: для Моцарта слово «гений» нипочем; скажите ему, что он гений, он преважно согласится с этим; начинайте доказывать ему, – что он вовсе не гений, он согласится и с этим, и в обоих случаях равно искренно. В лице Моцарта Пушкин представил тип непосредственной гениальности, которая проявляет себя без усилия, без расчета на успех, нисколько не подозревая своего величия. Нельзя сказать, чтоб все гении были таковы; но такие особенно невыносимы для талантов вроде Сальери. Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта, но как сила, как непосредственная творческая сила, он ничто перед ним… И потому самая простота Моцарта, его неспособность ценить самого себя еще больше раздражают Сальери. Он не тому завидует, что Моцарт выше его, – превосходство он мог бы вынести благородно, потому что он ничто перед Моцартом, потому что Моцарт гений, а талант перед гением – ничто… И вот он твердо решается» отравить его. «Иначе, – говорит он: – мы все погибли, мы все жрецы и служители музыки. И что пользы, если он останется еще жить? Ведь он не подымет искусства еще выше? Ведь оно опять падет после его смерти?» Вот она, логика страстей!..
За обедом в трактире Моцарт случайно спросил Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравил. Как истинный итальянец, Сальери отвечает, что едва ли, потому что Бомарше был слишком смешон для такого ремесла. Моцарт делает при этом наивное замечание:
Он же гений,
Как ты, да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Эта выходка ускорила решимость Сальери. Здесь Пушкин поражает вас шекспировским знанием человеческого сердца. В простодушных словах Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдал Сальери. Он знал себя, как человека, способного на злодейство, а между тем сам гений говорит, что гений и злодейство несовместны и что, следовательно, он, Сальери, не гений. А! так я не гений? Вот же тебе, – и яд брошен в стакан гения… Но, когда Моцарт выпил, Сальери как бы с смущением и ужасом восклицает:
Постой,
Постой, постой!.. ты выпил!.. без меня?
Это опять истинно драматическая черта! Но вот одна из тех смелых, обнаруживающих глубочайшее знание человеческого сердца черт, которые никогда не могут притти в голову таланту, всегда живущему «пленной мысли раздраженьем», и на которые он никогда не решится, если б они и могли притти к нему: это Сальери, с умилением слушающий «Requiem»[7] Моцарта и говорящий ему:
Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы…
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу.
Как поразительны эти слова своим характером умиления, какой-то даже нежностию к Моцарту! Друг Моцарт: видите ли, убийца Моцарта любит свою жертву, любит ее художественною половиною души своей, любит ее за то же самое, за что и ненавидит… Только великие, гениальные поэты умеют находить в тайниках человеческой натуры такие странные, повидимому, противоречия и изображать их так, что они становятся нам понятными без объяснений…
Последние слова Сальери, когда, по уходе Моцарта, остался он один, художественно округляют и замыкают в самой себе сцену:
Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?
Какая глубокая и поучительная трагедия! Какое огромное содержание и в какой бесконечно художественной форме!
Но нам предстоит переходить от одного чуда искусства к другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущает нас своею несоразмерностью с нашими силами. Ничего нет легче, как говорить о слабом произведении или открывать: слабые стороны хорошего; ничего нет труднее, как говорить о произведении, которое велико и в целом и в частях! К таким принадлежат: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и «Русалка», о которых, за исключением первого, еще никем из наших журналистов и критиков не было доселе сказано ни одного слова…{12}
Нечего говорить об идее поэмы «Скупой рыцарь»: она слишком ясна и сама по себе, и по названию поэмы. Страсть скупости – идея не новая, но гений умеет и старое сделать новым. Идеал скупца один, но типы его бесконечно различны. Плюшкин Гоголя гадок, отвратителен – это лицо комическое. Барон Пушкина ужасен – это лицо трагическое. Оба они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера – риторическое олицетворение скупости, карикатура, памфлет. Нет, это лица страшно истинные, заставляющие содрогаться за человеческую природу. Оба они пожираемы одною гнусною страстью и все-таки нисколько один на другого не похожи, потому что и тот, и другой – не аллегорическое олицетворение выражаемой ими идеи, но живые лица, в которых общий порок выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина – лицо трагическое. Альбер говорит жиду: когда мне будет пятьдесят лет, на что мне тогда и деньги?
Жид.
Деньги? – деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных,
И не жалея шлет туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их, как зеницу ока.
Альбер.
О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит,
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, всё бегает да лает.
В этом портрете мы видим лицо чисто комическое; но сойдем в подвал, где этот скряга любуется своим золотом, и пусть поэт багровым заревом своего поэтического факела осветит нам мрачные бездны сердца своего героя: мы содрогнемся от трагического величия гнусной страсти скупости, мы увидим, что она естественна, что у ней есть своя логика… Любуясь своим золотом, старый барон восклицает: