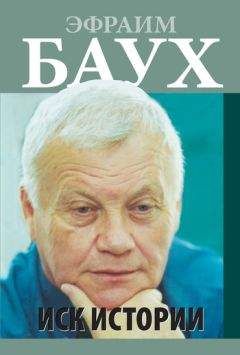К сожалению, при жизни Плеханова очень немногие из художников перешли на точку зрения рабочего класса. «Между буржуа-идеологами, — писал по этому поводу Плеханов, — переходящими на сторону пролетариата, мы видим очень мало художников. Это об'ясняется, вероятно, тем, что «возвыситься до теоретического понимания всего хода исторического движения могут только те, которые думают, а современные же художники, в отличие, например, от великих мастеров эпохи Возрождения, думают чрезвычайно мало» («Искусство», стр. 191).
Разумеется, победа пролетариата усилила приток в наши ряды художников. Тем не менее в общем и целом эта характеристика Плеханова остается в силе, и нам и теперь еще приходится советовать разным мнимым и настоящим «попутчикам» побольше думать, чтобы «возвыситься до теоретического понимания всего хода исторического движения».
Однако немногочисленность буржуазных художников, переходящих на точку зрения пролетариата, не вызывала у Плеханова сомнений в неизбежности создания пролетарского искусства. Об этом неопровержимо свидетельствуют заключительные строки статьи о Некрасове: «Смерть давно уже скосила Некрасова. Поэт разночинцев (курсив автора) давно уже сошел с литературной сцены, и нам остается ждать появления на ней нового поэта, поэта пролетариев (курсив автора)» (том X, стр. 395). Эти строки, да еще в связи с общими взглядами Плеханова на искусство, не оставляют сомнения в том, что взгляд тов. Троцкого на пролетарскую поэзию не имеет ничего общего с точкой зрения основоположника марксистского литературоведения. Характерно, что Плеханов не совершает здесь ошибки, очень распространенной в наших рядах. Многие товарищи подменяют проблему создания пролетарской литературы проблемой выдвижения отдельных писателей из рабочих и крестьян. Плеханов совершенно определенно говорит не о поэте, персонально вышедшем из рядов пролетариев, а о поэте пролетариев, т.-е. о художественном идеологе пролетариата, при чем вопрос о его личном происхождении играет уже второстепенную роль.
Проблема создания пролетарского искусства вызывает вопрос о том, мыслимо ли создание искусства в революционную эпоху. При этом очень часто ссылаются на Великую Французскую революцию. Тов. Троцкий обосновывает невозможность создания пролетарского искусства примером французской революции, якобы не создавшей своего искусства [6]. А вот что мы читаем по этому поводу у Плеханова: «Очень не прав был бы тот, кто… решил бы, что революционный период был совершенно неблагоприятен для развития искусства… Жестокая борьба, которая велась тогда не только «на границе», но и на всей французской территории от края до края, оставляла гражданам мало времени для спокойного занятия искусством. Но она вовсе не заглушила эстетических потребностей народа, — совершенно наоборот. Великое общественное движение, сообщившее народу ясное сознание своего достоинства, дало сильный, небывалый толчек развитию этих потребностей. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить парижский «Musee carnavalet». Коллекции этого интересного музея, посвященного времени революции, неопровержимо доказывают, что сделавшись «санкюлотским», искусство вовсе не умерло и не перестало быть искусством, а только прониклось совершенно новым духом. Как добродетель (vertu) тогдашнего французского «патриота» была по преимуществу политической добродетелью, так и его искусство было по приемуществу политическим искусством. Не пугайтесь, читатель, — это значит, что гражданин того времени, — т.-е., само собой разумеется, гражданин, достойный своего названия, — был равнодушен или почти равнодушен к таким произведениям искусства, в основе которых не лежала какая-нибудь дорогая ему политическая идея. И пусть не говорят, что такое искусство не может не быть бесплодным. Это ошибка. Неподражаемое искусство древних греков в весьма значительной степени было именно таким политическим искусством. Да и одно ли оно? Французское искусство «века Людовика XIV» тоже служило известным политическим идеям, что не помешало, однако, ему расцвесть пышным цветом. А что касается французского искусства эпохи революции, то «санкюлоты» и вывели его на такой путь, по которому не умело ходить искусство высших классов оно становится всенародным делом (курсив везде автора). Многочисленные гражданские праздники процессии и торжества того времени являются самым лучшим и самым убедительным свидетельством в пользу «санкюлотской» эстетики. Только это свидетельство не всеми принимается во внимание («Искусство», стр. 125).
* * *
Каковы же, наконец, общие принципы плехановского искусствоведения? В статье «Судьбы русской критики» Плеханов дал классическую формулировку основ научной эстетики: «Научная эстетика не дает искусству никаких предписаний; она не говорит ему: ты должно держаться таких-то и таких-то правил и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают [7] различные правила и приемы, господствующие в различные исторические эпохи. Она не провозглашает вечных законов искусства; на старается изучить те вечные законы, действием которых обусловливается его историческое развитие. Она не говорит: „французская классическая трагедия хороша, а романтическая драма никуда не годится“. У нее все хорошо в свое время; у нее нет пристрастий именно к тем, а не к другим школам в искусстве; а если (как это мы увидим ниже) у нее и возникают подобные пристрастия, то она, по крайней мере, не оправдывает их ссылками на вечные законы искусства. Словом, она об'ективна, как физика, и именно потому чужда всякой метафизики» (том X, стр. 192).
Эти классические строки воспринимаются часто совершенно «своеобразно». Читателю, внимательно следившему за предыдущим изложением, должно быть совершенно ясно, что эта общая плехановская формулировка выдвигает диалектический подход к литературе. Между тем ее часто пытаются истолковать фаталистически. Но, как известно, фатализм в той же мере похож на диалектику, в какой тактические схемы меньшевика Далина похожи на тактику революционного марксизма. Когда об'ективность научной эстетики, отсутствие у нее стремлений давать художникам вечные рецепты пытаются истолковать, как совершенно пассивное восприятие литературных фактов, без малейших попыток воздействовать на них в ту или иную сторону, — такое толкование плехановской формулы в точности напоминает истолкование христианского непротивления воинствующими вождями испанской инквизиции. Читатель помнит, что основными врагами Плеханова в области литературной критики были метафизики разных видов, оценивавшие любое художественное явление с точки зрения «вечных», «абсолютных», моральных или эстетических норм. Плеханов раз'ясняет им, что не существует вечных норм, позволяющих предпочитать, например, романтизм классицизму, или, наоборот: каждое из этих течений возникает на исторической социальной почве, и задача научной критики — выяснить эту почву. Но дико делать отсюда выводы, что критик-марксист в пределах исторического исследования литературных течений должен воздерживаться от оценок. Если, например, романтизм является закономерным, исторически-обусловленным литературным фактом, из этого не следует, что об отдельных бездарных романтиках, не умеющих разработать, как следует, свои романтические темы, нельзя сказать, что они бездарности. Если, с точки зрения научной эстетики, формальные приемы Державина не выше и не ниже формальных приемов пролетарских поэтов, то из этого отнюдь не следует, что критик-марксист не вправе сказать пролетарскому поэту: именно потому, что державинская форма есть закономерный литературный факт, ты не должен ею пользоваться, ибо вся историческая обстановка, породившая твое творчество, резко разнится от исторических условий, определивших характер творчества Державина.
Пролетариат, сознательно стремясь к своим классовым целям, тем самым действует по линии исторического развития. Пролетарский теоретик, освещая действительность с точки зрения интересов пролетариата, тем самым освещает ее об'ективно-верно. Это об'ясняется тем, что: 1) этот пролетарский теоретик рассматривает все явления диалектически и 2) линия развития общества совпадает с устремлениями передового класса эпохи, — пролетариата, чьим идеологом является наш теоретик. То же самое сочетание научной об'ективности и классовой оценки мы встречаем и в научной эстетике. «До сих пор, — пишет Плеханов, — мы предполагали, что люди, занимающиеся научной критикой, должны и могут оставаться в своих писаниях холодными, как мрамор, невозмутимыми, как дьяки, поседелые в приказе. Но такое предположение, в сущности, излишне. Если научная критика смотрит на историю искусства, как на результат общественного развития, то ведь и сама она есть плод такого развития. Если история и современное положение данного общественного класса необходимо порождает в нем именно такие, а не другие эстетические вкусы и художественные пристрастия, то у научных критиков тоже могут явиться свои определенные вкусы и пристрастия, потому что ведь не с неба же сваливаются и эти критики, потому что ведь и они тоже порождаются историей. Возьмем… опять того же Гизо. Он был научным критиком, поскольку он умел связать историю литературы с историей классов в новейшем обществе. Указывая на такую связь, он провозглашал вполне научную об'ективную истину. Но эта связь стала заметна для него единственно потому, что история поставила его класс в известное отрицательное отношение к старому порядку. Не будь этого отрицательного отношения, исторические последствия которого вообще неисчислимы, не была бы открыта и об'ективная истина, очень важная для истории литературы. Но именно потому, что самое открытие этой истины было плодом истории и происходивших в ней столкновений реальных общественных сил, оно должно было сопровождаться определенным суб'ективным настроением, которое, в свою очередь, должно было найти известное литературное выражение» (там же, стр. 196).