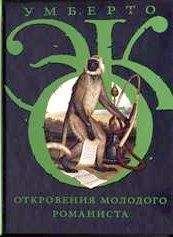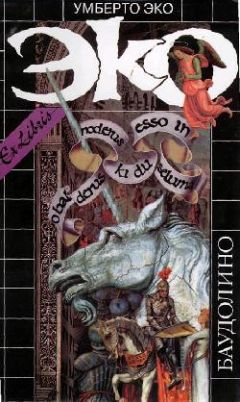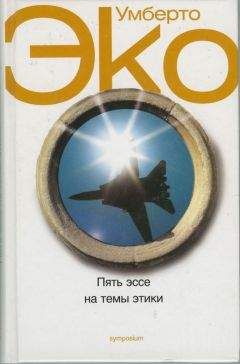Ознакомительная версия.
Гораздо интереснее доказательства внутренние, то есть присутствующие в самом тексте. В следующем выпуске A Wake Newslitter Рут фон Фуль заявила, что выражение so vi et, возможно, задумано автором как своего рода «аминь» (по созвучию с английским выражением so be it, «да будет так»), используемый среди членов авторитарной религиозной организации; что общий контекст этой части романа отнюдь не политического, но библейского толка; что Ондт восклицает: As broad as Верру's realm shallflourish my reign shallflourish! («На всю ширь цветущих владений Беппи царствие мое пусть благоденствует!»); что в итальянском языке «Беппи» — это уменьшительно-ласкательное сокращение от «Иосиф»; что слово berial может представлять собою завуалированную аллюзию на библейского Иосифа (сына Иакова и Рахили), которого дважды заживо «погребли» — один раз в колодце, второй — в темнице; что Иосиф впоследствии родил Эфраима (в русской традиции — Ефрем), одного из сыновей которого звали Берия (1 Пар. 7:23); что у Асира, Иосифова брата, тоже был сын по имени Берия (Быт. 46:17); и так далее[13].
Часть аллюзий, найденных Рут фон Фуль, безусловно, притянута за уши, но трудно отрицать, что все содержащиеся в тексте намеки указывают на Библию. Таким образом, опираясь на внутренние, текстуальные доказательства, в точном соответствии с Блаженным Августином, также можно исключить Лаврентия Берию из джойсовского опуса.
Текст — это инструмент, создающий для себя образцового читателя. Этот читатель не из тех, кто выдвигает «единственно правильное» толкование. Текст чувствует своего образцового читателя и априори наделяет его правом пробовать бесконечное число интерпретаций. Эмпирический читатель — просто актер, пытающийся войти в постулируемую текстом роль читателя образцового. Поскольку основное намерение текста, по сути, состоит в формировании образцового читателя, способного его интерпретировать, то задача образцового читателя — в постижении образцового автора, который не тождественен автору эмпирическому и который в конечном счете соответствует намерениям текста.
Распознать намерения текста — значит распознать семиотическую стратегию. Иногда семиотическая стратегия очевидна — в силу использования в тексте устоявшихся стилистических оборотов. Если история начинается с «давным-давно жили-были», можно с определенной долей уверенности предположить, что перед нами сказка, подразумеваемый и постулируемый образцовый читатель которой — ребенок (или взрослый, способный воспринимать ее с детской непосредственностью). Может статься, конечно, что зачин этот содержит иронию и последующий текст должен восприниматься куда более серьезно. Но даже если в процессе чтения выяснится, что вступительная фраза таила в себе иронию, важно отметить, что изначально текст пытался выдать себя за сказку.
Когда текст отправляют в мир, как швыряют в океан письмо в бутылке (а это удел не только поэзии или художественной прозы, но и книг вроде «Критики чистого разума» Канта), — иными словами, когда текст создается не для одного конкретного адресата, а обращен к сообществу читателей, автор наперед знает, что его слова будут истолкованы не согласно его замыслу, но в соответствии со сложной стратегией взаимодействий, в которую вовлечены эти самые читатели, обладающие социальным достоянием в виде языковой компетенции, т. е. знания родного языка. Под «социальным достоянием» я подразумеваю не только некий состоящий из набора грамматических правил язык, но всю энциклопедию, то есть сумму тех знаний, что накоплены в процессе использования этого языка: порожденные им культурные традиции и набор всех существующих и существовавших ранее интерпретаций множества написанных на этом языке текстов, включая текст, читаемый в данный момент.
Акт чтения обязан принимать во внимание все упомянутые элементы, пусть даже отдельный конкретный читатель вряд ли способен совместить их все в себе. Таким образом, каждый акт чтения представляет собою сложную транзакцию между компетенцией читателя (читательским знанием о мире) и тем типом компетенции, которую данный текст постулирует, чтобы быть истолкованным самым «экономичным» образом — так, чтобы интерпретация строилась на максимальном понимании написанного и поддерживалась контекстом.
Образцовый читатель не тождественен читателю эмпирическому. Читатель эмпирический — это вы, я, кто угодно, читающий текст. Эмпирические читатели интерпретируют текст по-разному; не существует закона, который бы указал им, как именно читать, поскольку они зачастую используют текст как проводник для собственных чувств, зародившихся вне текста или текстом случайно навеянных.
Приведу несколько забавных случаев, когда мои собственные читатели вели себя не как образцовые, а как совершенно эмпирические. Друг моего детства, с которым мы не виделись много лет, после публикации моего второго романа «Маятник Фуко» прислал мне письмо: «Дорогой Умберто! Не припомню, чтобы я рассказывал тебе печальную историю моих дяди и тети, однако сдается мне, что с твоей стороны было весьма бестактно вставить ее в свой роман». Действительно, в нескольких эпизодах книги фигурируют «дядюшка Карло» и «тетя Катерина», родственники моего главного героя Якопо Бельбо. Правда и то, что такие люди действительно существовали: с небольшими изменениями я изложил в романе историю моих собственных дядюшки и тетушки (которых, однако, звали иначе). В ответном письме я сообщил, что «дядюшка Карло» и «тетя Катерина» — не его, а мои родственники (соответственно, авторские права принадлежат мне) и что я знать не знал, что у него тоже были дядя и тетя. Мой друг извинился: он настолько погрузился в текст романа, что, как ему показалось, узнал в нем некоторые эпизоды из жизни своих родных — что вполне возможно, поскольку во время войны (а именно этот период описывается в тексте) множество дядюшек и тетушек попадали в схожие ситуации.
Что же произошло с моим другом? Он обнаружил в моей истории нечто, что на самом деле хранилось в его собственной памяти. Он не интерпретировал мой текст, но использовал его. Использовать чужой текст для собственных фантазий не возбраняется, мы все время от времени этим занимаемся, однако дело это сугубо частное, и выносить его результаты на публику не следует. Такое использование текста означает, что ты принял его за собственные дневниковые записи.
Существуют определенные правила игры, и образцовый читатель старается их соблюдать. Мой друг позабыл эти правила; в результате его личное восприятие, восприятие эмпирического читателя, взяло верх над восприятием, которого ожидал автор от читателя образцового.
В главе 115 «Маятника Фуко» мой герой Казобон, посетив в ночь с 23 на 24 июня 1984 года оккультную церемонию в парижской Консерватории науки и техники, словно одержимый проходит всю рю Сен-Мартен, пересекает Медвежью улицу, добирается до квартала Бобур, а затем до церкви Сен-Мерри. Далее он бредет по разным улицам (все они в романе названы поименно), и заканчивается его маршрут на Пляс де Вож.
Я уже говорил, что для написания этой главы несколько ночей подряд ходил тем же маршрутом, наговаривая на диктофон все, что видел, и чувства, которые при этом испытывал (заметьте, я раскрываю перед вами свои методы, как эмпирический автор). Более того, к моим услугам была компьютерная программа, которая умеет показывать звездное небо в любое время любого дня любого года на любой широте и долготе; с ее помощью я определил, что в небе над Парижем в ту ночь — из разных точек и в разное время — можно было видеть луну. Все это я проделал не потому, что хотел потягаться с Эмилем Золя в реалистичности, но (как было сказано выше) поскольку предпочитаю в деталях представлять себе пространство, на котором разворачиваются описываемые мною события.
После того как роман был опубликован, я получил письмо от читателя, который не поленился проштудировать в Национальной библиотеке подшивку парижских газет за 24 июня 1984 года и вычитал, что вскоре после полуночи (то есть приблизительно когда там проходил Казобон) на углу рю Реомюр (которая не упомянута в романе, но действительно пересекает рю Сен-Мартен) случился пожар, и весьма серьезный, коль скоро о нем написали в газетах. Читатель спрашивал, как же Казобон прошел мимо и не заметил пожара.
Я ответил, что Казобон, без сомнения, видел пожар, но по неким неведомым мне мистическим причинам предпочел о нем умолчать — что довольно естественно для истории, изобилующей истинными и ложными загадками. Вероятно, читатель до сих пор пытается обнаружить повод, по которому мой Казобон ни словом не обмолвился о пожаре, подозревая в том очередной заговор рыцарей-храмовников. А правда состоит в том, что я, по всей видимости, оказался на перекрестке еще до пожара — или вскоре после того, как он был потушен. Точнее сказать не могу. Знаю лишь, что читатель использовал мой текст в личных целях: пытался добиться его буквального, в мельчайших деталях, соответствия реальному миру.
Ознакомительная версия.