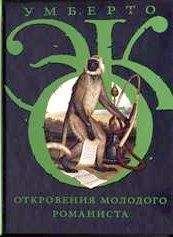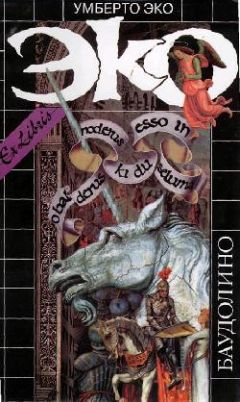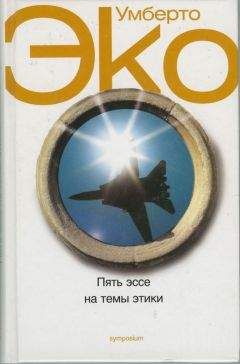Ознакомительная версия.
Я приложил максимум усилий к тому, чтобы избежать ненужных, на мой взгляд, аллюзий на Мэри Энн Эванс. Однако потом один умный читатель, Дэвид Роби, подметил, что Казобон в романе Элиот пишет книгу под названием «Ключ ко всем мифологиям». Как образцовый читатель, я был обязан принять данную ассоциацию. Существующий текст и наличие энциклопедических знаний позволят любому образованному читателю обнаружить эту связь. И в ней имеется смысл. Тем хуже для эмпирического автора, который оказался не так умен, как его читатели.
Еще один факт в том же духе: мой роман называется «Маятник Фуко», потому что маятник, играющий в нем не последнюю роль, был изобретен Леоном Фуко. Если бы изобретателем маятника был Бен Франклин, книга бы называлась «Маятник Франклина». Однако в моем случае я с самого начала предвидел, что кое-кто углядит в названии романа скрытую аллюзию на Мишеля Фуко: мои герои одержимы аналогиями, а Фуко в одной из работ писал о парадигме сходства. Мне как эмпирическому автору возможность возникновения подобной аллюзии не импонировала: она выглядит как шутка, причем не очень умная. Однако героем романа и предметом, определившим название, был маятник, изобретенный Леоном Фуко; мне оставалось лишь надеяться, что мой образцовый читатель не станет легкомысленно связывать Леона с его однофамильцем Мишелем. Увы, я ошибался: многие умные читатели поступили именно так. Текст существует сам по себе. Возможно, читатели правы и я несу ответственность за очень плоскую шутку. Может, шутка не так уж плоха и поверхностна, как мне кажется. Не знаю. Теперь я уже ничего не могу с этим поделать.
Давайте теперь рассмотрим примеры интерпретаций, которые я (даже если, выверяя текст в качестве образцового читателя, я уже забыл, каковы были мои изначальные намерения) наряду с любым другим человеческим существом имею полное право отвергнуть, как не соблюдающие принцип экономичности.
Прежде чем виртуозно перевести на русский язык «Имя розы», Елена Костюкович написала о нем обширное эссе[16]. В нем она упоминает роман Эмиля Анрио «Братиславская роза» (1946), который повествует о поисках таинственного манускрипта и завершается пожаром, уничтожающим библиотеку. Действие разворачивается в Праге, которую я также вскользь упоминаю в начале своего романа. Более того, одного из моих библиотекарей зовут Беренгар, а в книге Анрио действует библиотекарь по имени Бернгард.
Роман Анрио я никогда не читал и даже не подозревал о его существовании. Но читал много интерпретаций, в которых назывались некоторые использованные мною в работе источники, и всякий раз очень радовался: как ловко критики обнаружили то, что я так искусно замаскировал (именно для того, чтобы они это позднее нашли), — например, тот факт, что прототипом нарративных взаимоотношений между Адсоном и Вильгельмом послужили Серенус Цейтблом и Адриан Леверкюн из «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. Некоторые критики указывали на источники, ранее мне неизвестные, — в этих случаях мне было приятно, что меня считают достаточно эрудированным, чтобы их цитировать (не так давно один юный медиевист сообщил, что слепой библиотекарь упоминается в трудах Кассиодора, датируемых шестым веком нашей эры). Мне также попадались критические разборы романа, в которых интерпретаторы указывали на влияние авторов и произведений, о которых я и не помышлял в процессе написания, хотя безусловно читал их в юности; понятно, что на подсознательном уровне эти книги действительно на меня повлияли. Так мой друг Джорджо Челли с уверенностью заявил, что в прошлом я наверняка зачитывался романами писателя-символиста Дмитрия Мережковского, и я понял, что он абсолютно прав.
Как обычный читатель «Имени розы» (оставим в стороне тот факт, что я автор этого романа), я полагаю, что приведенный Еленой Костюкович аргумент не доказывает ничего интересного. Поиски таинственного манускрипта и огонь, уничтожающий библиотеку, являются весьма распространенными литературными клише; можно припомнить массу других книг, где они используются. Что до Праги, то она действительно упомянута на первых страницах моего романа, но если бы я вместо Праги назвал Будапешт, ничего бы не изменилось. Прага как таковая не играет в моей истории ключевой роли.
Кстати, когда задолго до перестройки «Имя розы» переводили в одной из стран Восточной Европы, переводчик позвонил мне и сказал, что упоминание в предисловии о вводе советских войск в Чехословакию может стать препятствием при публикации. Я ответил, что не разрешаю менять исходный текст и что если роман подвергнут цензуре, то подам на издателя в суд. Затем (более в шутку, чем всерьез) добавил: «Я упомянул Прагу, потому что считаю ее одним из волшебных городов. Но Дублин с этой точки зрения мне тоже нравится. Если хотите, можете заменить Прагу на Дублин. Смысл от этого не изменится». — «Но русские войска не входили в Дублин», — возразил переводчик. «А вот в этом я не виноват», — был мой ответ.
Наконец, имена «Беренгар» и «Бернгард» могут быть простым совпадением. В любом случае образцовый читатель должен признать, что наличие четырех совпадений одновременно (манускрипт, пожар, Прага, Беренгар) — факт весьма интересный, и мне как эмпирическому автору с этим утверждением не поспорить. Несмотря на все вышесказанное, недавно мне в руки попал экземпляр французского издания романа Анрио, и выяснилось, что библиотекаря там зовут не Бернгард, а Бернхард — Бернхард Марр. Возможно, Костюкович полагалась на русский перевод, в котором для удобства чтения исказили имя героя. Таким образом, минимум одно из удивительных совпадений отпадает само собою, и мой образцовый читатель может немного расслабиться.
Однако Елена Костюкович в своем эссе указала еще одну нить, якобы связывающую мой роман с книгой Анрио. Утерянный манускрипту Анрио, говорит Костюкович, — рукопись мемуаров Казановы. Тогда как в романе Эко присутствует второстепенный персонаж по имени Гугон из Новокастро (на его родном языке — Хьюго Ньюкасл). Из этого Костюкович делает следующий вывод: «Лишь идя от имени к имени, можно уяснить "Имя розы"».
Как эмпирический автор могу заявить, что Гугон из Новокастро — не выдумка, а реальный исторический персонаж, упоминаемый в использованных мною источниках (описанная мною встреча между делегацией францисканцев и папскими легатами основана на хронике четырнадцатого столетия). Но читатель не обязан об этом знать, и потому мою реакцию не следует принимать во внимание. Тем не менее полагаю, что как обычный читатель имею право на собственное мнение. Итак, во-первых, «Ньюкасл» не является переводом слова «Казанова», которое означает «новый дом» (с этимологической точки зрения, слово Novocastro — это «новый город» или «новый лагерь»). Таким образом, «Ньюкасл» отсылает нас к «Казанове» в той же степени, что и к «Ньютону».
Однако присутствуют и другие, текстуальные доказательства того, что гипотеза Костюкович не экономична. Во-первых, в моей книге Гугон из Новокастро появляется лишь мельком и не имеет никакого отношения к библиотеке. Если бы в намерения текста входило намекнуть на наличие устойчивой взаимосвязи между Гугоном и библиотекой (или между ним и манускриптом), он уделил бы этому факту больше внимания. Но текст об этом молчит. Во-вторых, Казанова был профессиональным развратником и ловеласом (во всяком случае, именно таким рисует его общепринятая энциклопедия человеческого знания), тогда как ничто в моем романе не позволит усомниться в благочестии Гугона из Новокастро. В-третьих, не существует никакой очевидной связи между рукописью Казановы и рукописью Аристотеля, а распутство нигде в моем романе не названо достойным поведением. Как образцовый читатель собственного романа, я чувствую себя вправе заявить, что в «связях с Казановой» его изобличить не удалось.
Как-то раз в ходе литературных дебатов меня спросили, что я хотел сказать фразой «наивысшее счастье — иметь, что имеешь». Признаюсь, вопрос этот привел меня в замешательство, однако я заявил, что никогда этой фразы не писал. Я был уверен в своей правоте, и причин для этого было множество. Во-первых, я вовсе не считаю, что счастье состоит в обладании тем, что тебе принадлежит; под такой вопиющей банальностью не подписался бы даже песик Снупи. Во-вторых, маловероятно, чтобы средневековый персонаж мог думать, что счастье состоит в том, чтобы иметь, что имеешь, поскольку для средневекового сознания счастье было состоянием, которого можно достичь в будущем, пройдя сквозь мытарства и страдания. Итак, я повторил, что такой фразы никогда не писал, и мой собеседник смотрел на меня, как если бы я прилюдно отказался от собственных слов.
Позже я случайно наткнулся на эту фразу: в «Имени розы», в описании эротического экстаза, испытанного Адсоном в монастырской кухне. Сей эпизод, как может с легкостью догадаться даже самый недалекий читатель, целиком построен на цитатах из библейской Песни Песней и работ средневековых писателей-мистиков. В любом случае, даже если точный источник неопределим, читатель может с уверенностью утверждать, что в указанном отрывке описываются переживания юноши после первого (и, возможно, последнего) в его жизни полового акта. Если прочитать упомянутую фразу целиком, не вырывая ее из контекста (я имею в виду контекст романа, а не контекст его средневековых источников), то вот что мы видим: «О Господи Боже мой! Если душа восхищена от тебя, тогда наивысшее благо — любить, что видишь, наивысшее счастье — иметь, что имеешь». То есть «счастье — иметь, что имеешь» не вообще в любой момент жизни, но исключительно в моменты экстатического восторга. В данном случае перед нами образцовый пример, когда совершенно необязательно понимать намерения эмпирического автора, ибо намерения текста выражены предельно ясно и не допускают иной трактовки. И если считать, что использованные мною слова наделены общепринятым значением, то истинный смысл текста вовсе не таков, каким его вообразил данный конкретный читатель, потакая собственным идиосинкразическим позывам. Стало быть, в промежутке между непостижимым намерением автора и спорным намерением читателя присутствует прозрачное намерение текста как такового, которое самостоятельно отметает любые несостоятельные интерпретации.
Ознакомительная версия.