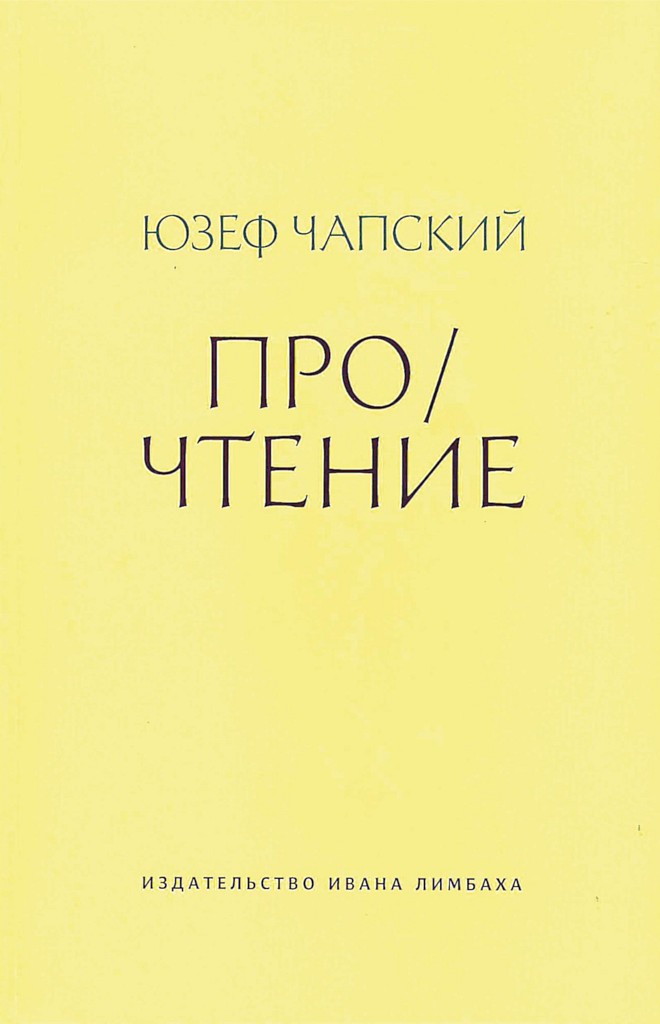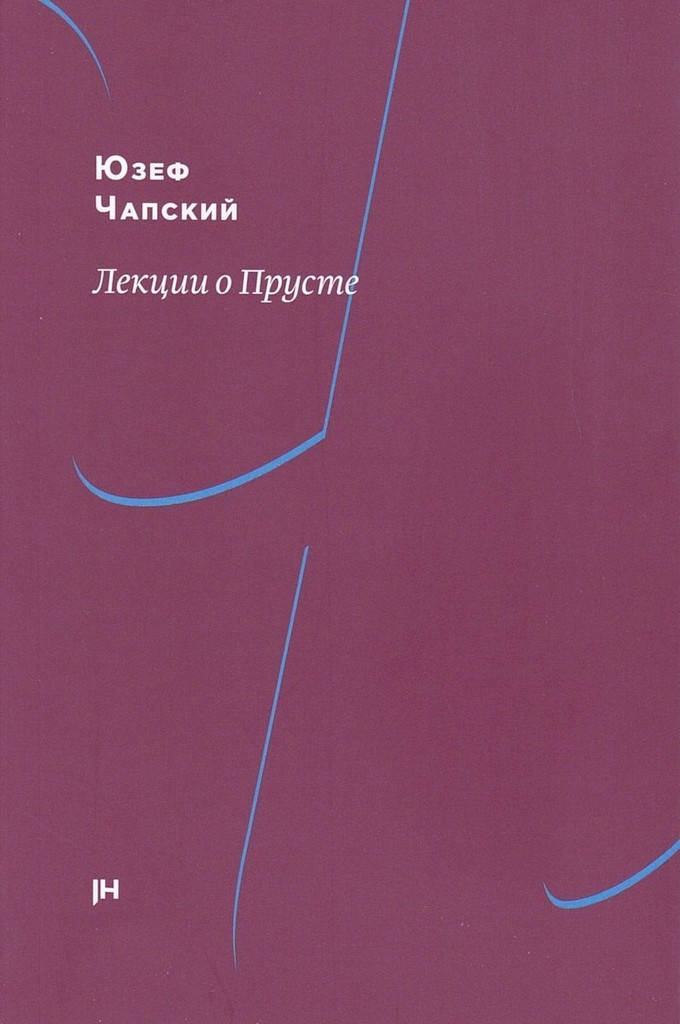всматривается в лик Христа, осуждая половую сферу, идет по пути тех кастратов, разрывая священную связь человека с природой. А как непосредственное следствие этого человек, не выдерживая жизни в «авитализме» христианства, возвращается к земле, но уже с вырванным из земли корнем, с уничтоженной в себе способностью религиозного чувства природы. И это «вырывание корня» бросило «Европу в Вольтера и вольтерьянство», в атеизм, цинизм и грязь.
Что за судьба […]: или — монастырь, или уж если отрицанье — то такое дьявольское, с хохотом, цинизмом, грязью и… революцией… Знаете ли, друг мой, не будь этого ужасного религиозного цинизма в Европе, м. б. я всю жизнь простоял бы «тихо и миловидно» «со свечечками», и переживал я бы только «христианские (православные) умиления» (письмо к Е. Голлербаху).
И Розанов с жаром уверяет, что смех над Богом встречается и у духовенства, что и у них в душах царит атеизм, что и они в грязи, и приводит анекдоты в доказательство их религиозного цинизма. Его не отпускает вопрос, откуда взялся смех над Богом, цинизм в Европе, откуда Вольтер и вольтерьянство, можно ли себе представить еврея, который бы так насмехался над Моисеем [309]; но не только, ведь Алкивиад был изгнан из Афин за то, что пошутил над богами, ночью, в веселой компании, а ведь это уже был пе-риод упадка Греции, период Пелопонесской войны, почти современной нам войны — значит, не только в Иерусалиме, но и в Афинах Вольтер не имел бы права на существование. Розанов хочет дойти до источника, откуда взялись Дидро и Гельвеций, а еще раньше Боккаччо и эта «невыносимая грязь Декамерона» (письмо к Е. Голлербаху). Он признается, что вся его жизнь прошла под этим знаком вопроса — откуда в Европе альтернатива: чистые девы или смешки над Богом [310]. И говорит, что Христу достаточно было отнять у религии фаллический элемент, чтобы ее разрушить, уничтожить ее источник и сущность — древо жизни.
А Мориак цитирует Боссюэ: «Нет ничего более противоположного, чем жизнь в благодати и жизнь в природе» — и вспоминает Паскаля, назвавшего супружество «la plus basse condition du christianisme» [311]. Если Мориак «Страданий и счастья христианина» и не заходит так далеко, как св. Исидор, который говорил, что древо супружества надобно срубить ножом невинности, то его пылкое произведение все равно настроено враждебно по отношению к полу.
Физиологически насыщенному телу всегда сопутствует ум, не способный переживать неземное (adhérer au surnaturel). В одном человеке могут чередоваться периоды (alternances) чувственной и духовной жизни, но никогда эти два состояния одновременно…
И еще цитата Мориака из Боссюэ: «Оскверненные с рождения, зачатые в беззаконии, среди насилия, в мятеже страстей и сне разума, мы до самой смерти должны бороться со злом, полученным от рождения».
Тысячи христиан, таких как Паскаль, Боссюэ и Мориак, в целые периоды жизни видят христианство в полном подавлении пола и инстинкта. Вся жизнь Розанова была борьбой с этим христианством во имя пола, который, по его мнению, связывает человека с Богом гораздо больше, чем мозг и совесть.
Письмо к Голлербаху, написанное незадолго до смерти, рисует в грубом, упрощенном сокращении фон многолетних размышлений Розанова о христианстве, суть его бунта.
Метался, поистине «метался» об этом [о христианстве. — Ю. Ч.] я еще в Контроле [Розанов был там чиновником. — Ю. Ч.], затем — в Риге.
Все бегал, все бегал, в департаменте и по саду […]: «невозможно примирение». «Христианство может быть только разрушено». Это — система мысли, и — «спасения христианству нет никакого».
Затем, в печати, я уже только хитрил, хитрил — много, ради цензуры и глупых читателей: но во мне самом оно было совершенно разрушено, до основания, до песчинки. Нет выбора: когда я жил в Лесном, то, сидя на верху конки [конный трамвай. — Ю. Ч.] — проезжал мимо деревьев […] — они хлестали по лицу, и вот будто шептали ветви их: «Спаси нас!! Спаси нас!!!» (т. е. от Христа). «Если ты не позаботишься — мы умрем, нам только гнить» (Голгофа). «Спаси же нас, это — наш завет тебе» (письма к Е. Голлербаху).
VIII. Nike, Nike, Nike
Cruix fidelis inter omnes. Arbor una nobilis, nulla
silva talem profert fronde, flore, germine.
О, верный крест, благороднейшее из деревьев.
Ни один лес не родит таких листьев, цветов и семян.
(Из литургии Страстной пятницы)
Возвращаясь спустя годы к последнему разделу этого этюда, я еще больше, чем когда-либо, поражаюсь диаметральной противоположности развития мысли, диаметральной противоположности судеб Мориака и как будто обреченного на забвение Розанова.
Автор «Souffrances et bonheur d’un chrétien» [312], написанных тридцать лет назад, пары десятков томов романов и эссе, член Академии, лауреат Нобелевской премии и ведущий современный публицист, даже политический памфлетист Франции, Мориак добился не только славы великого писателя, о которой страстно мечтал в молодости в провинциальном Бордо, он добился большего: в бессчетных статьях, а теперь в еженедельном «Дневнике писателя» в «Экспрессе» он сумел соединить подлинную интимность дневника с резкими, актуальными, порой убийственными политическими выпадами, добился того, что его читает, любит и ненавидит пол-Франции, не считая читателей за ее пределами, что он имеет влияние на мышление и даже деятельность целого течения во французском обществе.
Развитие мысли Мориака также представляет собой диаметрально противоположную Розанову эволюцию: от «Souffrances et bonheur» до «La pierre d’achoppement» [313] (1951), книги с такой же силой выразительности, только более отшлифованной, — писатель приходит к целостности и даже примирению. Нападки Мориака в «La pierre d’achoppement» (книге фундаментальной, наряду с «Souffrances et bonheur», для понимания развития его мысли) направлены против преступной лживости (détournement criminel) католиков, в частности, они обличают отсутствие стремления к правде католиков-националистов и реакционеров, указывают на все механическое в религии, на омертвелости и предрассудки, но сомнения Мориака в отношении фундаментальных истин Церкви, которые он в ту