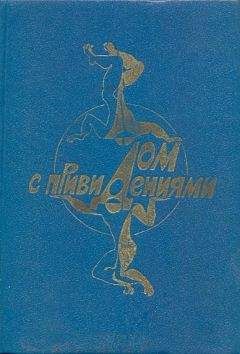С накоплением историко-литературных фактов всё очевиднее делается значимость эстетической — по законам красоты целесообразного — «доводки» идей, подхватываемых писателем-фантастом и в науке, и в жизненной практике. Если наше художественное восприятие непосредственно соотносит образы традиционного реалистического искусства с тем, что есть и что было, то научно-фантастические образы надобно соотносить с тем, что может или должно быть. Критерий жизненной правды, понятно, в этом случае затруднён, — наука даёт только определённый ориентир реалистическому вымыслу, но не может вполне оценить достоверность облика грядущего, это под силу одной только практике. Наши представления о будущем неизбежно меняются по мере его созидания.
Эстетическое восприятие мира, гораздо более древнее, чем научное, складывалось на основании более общих и долгодействующих истин о природе и обществе. И хотя мир отражается в эстетическом сознании не с такой глубиной и точностью, зато — целостно, позволяя чувству красоты целесообразного соизмерить мыслимые предпосылки будущего с практическими потребностями и идеальными представлениями, как бы взвесить одни другими (о чём несколько подробнее ниже), интуитивно добиваясь взаимной гармонии. Чувство красоты выступает как бы другой стороной меры будущего — уже не только как возможного, но и как желательного и целесообразно-прекрасного, помогает создавать установку на то, чего наука хотя и не допускает ещё сегодня, но что, тем не менее, желательно (равным образом нежелательно) было бы завтра. Научно-фантастический образ будущего формируется диалектически противоречивым взаимодействием истины с красотой.
Эту двойную природу научной фантастики нетрудно понять по отдельности с точки зрения искусства и с точки зрения науки. Сложнее усваивается, что целостное осуществление научной фантастикой обеих позиций в какой-то новой третьей создаёт также и новое качество художественного вымысла, не тождественное той или другой. В творческом методе научной фантастики эстетическая мысль и научная образуют «химически» иное соединение и для его пробы не вполне уже подходит «лакмусовая бумага» либо традиционного искусства, либо научного знания. Единственно достоверным критерием жизненной правды остаётся вся человеческая практика, иными словами, само будущее. Это ещё один аргумент в пользу того, что научная фантастика — самостоятельный тип творческой деятельности, обслуживающий не науку и не искусство, а всю нашу жизнь во всей её полноте. Фантастическое творчество отличают поэтому не только типологические и поэтические черты, но и своё гносеологическое и функциональное своеобразие, пограничное искусству и науке, но не совпадающее ни с тем, ни с другой.
Такое двуединое восприятие не просто жанра, но — теперь уже ясно, — и типа мышления, исторически сложилось недавно и вызывает нередко недоумение. «Меня удивляет, — писал один из участников дискуссии в „Литературной газете”, — когда в споре о фантастике противопоставляются люди и техника», — и, не переводя дыхания, начинал противопоставлять: «Ведь фантастическая литература — это не техническая литература! Это, прежде всего, литература о человеке, о долге, чести, страхе, любви и т.д., о человеческих чувствах, а не о реакторах и звездолётах…»[379]. Но почему же о творческом разуме человечества, воплощённом в чудеса научно-технического прогресса, — в последнюю очередь? Разве литература обречена на одни только эмоции? А универсальность, а всесторонность художественного исследования человека? Человек — центральная фигура литературы не одними своими страстями. Афористическое высказывание Л.Леонова: «Мой девиз: в центре искусства находится мысль»[380] — верно подчёркивает интеллектуальную ориентацию в наш век всей художественной культуры и тем более относится к научной фантастике.
Лев Толстой, читая более ста лет тому назад «лунную дилогию Жюль Верна, обратил внимание не столько на ощущения космонавтов, изображённые, хотя и с живым юмором, но без особых красот, сколько на то, каким образом удаётся подпрыгивать в невесомости. Сцена в лунном снаряде противоречила обыденным представлениям о законах природы. Впервые по-настоящему испытал невесомость Ю.Гагарин. Но уже Верн описал это явление как гипотетическую реальность. И эти умственные, употребляя слово Толстого, заходы в будущее привлекали пристальное внимание великого реалиста — Толстой добивался узнать, не противоречит ли движение в невесомости законам природы и т.п.
Ещё его современники заинтересовались тем новым, что вносила необычная эта фантастика в реалистическое искусство. Братья Гонкуры подметили в нарождавшемся жанре не только новую для литературы тематику. «После чтения (научно-фантастических произведений Эдгара По) нам открылось такое, — записали они в своих литературных дневниках, — чего публика, кажется, не подозревает. По — это новая литература, литература XX века, научная фантастика, вымысел которой можно сказать, как А+Б, литература одновременно маниакальная и математическая (!). Воображение, действующее путём анализа, Задиг (герой одноимённой повести Вольтера, — А.Б.), поступающий как следователь, Сирано де Бержерак как ученик Араго. И вещи приобретают большее значение, чем люди, — и любовь, любовь уже в произведениях Бальзака немного потеснённая деньгами, — любовь уступает место другим источникам интереса; словом, это роман будущего, призванный больше описывать то, что происходит в мозгу человечества, чем то, что происходит в его сердце»[381].
Очень современное, хотя тоже неполное на сегодняшний день разграничение с нефантастической литературой. «Роман будущего» не противопоставил «машины» страстям, а соединил — для разведки будущего — традиционное индивидуально-личное начало литературы с коллективным интеллектом человечества.
Наблюдение Гонкуров не утратило значения в наше время, когда порой отделываются от вопроса: «На какой основе возможна нынче фантастика, кроме научной»[382], остроумием вроде: «Фантастика возможна на одной основе: на художественной. Произведениям же „чисто” научной фантастики, я, признавая их существование (и на том спасибо! — А.Б.), отказываю в праве называться художественной литературой. Или техницизм, или человековедение. Приходится выбирать…»[383].
Но разве Ж.Верн в романе «Двадцать тысяч лье под водой», разве А.Беляев в «Человеке-амфибии» и С.Лем в «Возвращении со звёзд», разве братья Стругацкие в повести «Возвращение» и другие, кому отказано от литературы, добивались, ну, не шекспировского, а всё-таки признанного совершенства не на основе научной фантастики, а в результате ложного выбора? Писателю-фантасту приходится как раз соединять, однако «техницизм» здесь ни при чём, — этим жупелом изгоняют из творческого метода фантастической литературы научную мысль.
В этой изрядной путанице проглядывает под своеволием «моего вкуса» некая логика. Писателям и читателям, чурающимся пресловутого техницизма, памятно декретирование в сороковые-пятидесятые годы теоретиками так называемой фантастики ближнего прицела лабораторно-конструкторских разработок в качестве образца и критерия на все случаи жизни. Ясное дело, в таком натуралистическом понимании законов жанра научная фантастика не могла не разочаровывать, ну, например, в наивных надеждах на чуть ли не завтрашнюю встречу с инопланетными братьями, не могла оправдать своих «пророчеств» о новой расе полулюдей-полуроботов и прочих подобных чудесах. С точки зрения «ближнего прицела» в научно-фантастическом вымысле не оставалось места никакой художественной условности…
Ну а коль скоро наука, оказывается, не может всё то, что наобещала научная фантастика, не лучше, не проще ли вернуться к старой доброй сказке, благо она освобождает нас от докучливой логики…
Исторически молодой жанр, соединивший искусство с наукой не только как форму и содержание, но и на уровне творческого метода, не укоренил ещё в нашем сознании своей особенной, научно-фантастической условности. Не потому ли научную фантастику невольно подтягивают к «реалистике» (чтобы укорять за то, что не отвечает канону) или, наоборот, отождествляют с фантастикой ближнего прицела, хотя та похожа на научную примерно так, как натурализм на полнокровное реалистическое искусство.
И поэтому когда братья Стругацкие, объясняя, почему отдали предпочтение ненаучной фантастике, стали сетовать на неплодотворность своих попыток жёстко-рационально рассчитать художественное произведение, — это было уже не по адресу настоящей научно-фантастической литературы. Это в духе почившего «ближнего прицела», подменявшего многообразие научно-фантастического реализма проблематикой, приёмами, стилем «точных» наук. Братья Стругацкие почему-то принимали этот сциентизм за научность…