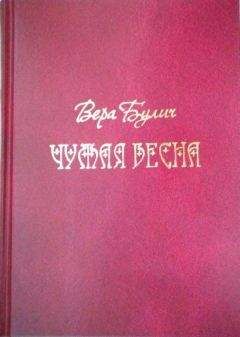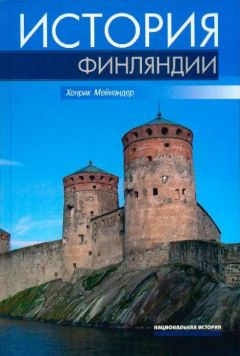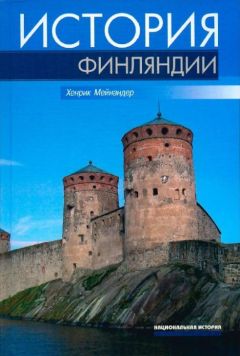Дом
От сырости, от старости
В морщинках мелких дом.
Осенний ветер в ярости
Всю краску сбил дождем.
Но по стенам некрашеным
Разросся виноград,
В цветном окошке башенном
Горит густой закат.
Закат сгорает розовый,
И старый дом грустит,
И желтый лист березовый
Над крышею летит.
А ночью, ветром сдвинутый,
Навстречу облакам
Плывет мой дом покинутый,
И шпиль, как мачта, прям.
Плывет в осеннем холоде,
Под сосен долгий стон
Ко мне в далеком городе
И в мой вплывает сон.
1936
Асфальтовая мостовая
В разводах мокрых огней,
И катится дробь дождевая,
Подпрыгивая, по ней.
Из желоба хлещет фонтаном,
Стучит по крышам домов,
По шелковым барабанам
Качающихся зонтов.
А ветер, врываясь с разбегу
Под зонтики из-за угла,
Подбросить их хочет к небу,
Где туча гнездо свила.
…И помнит о солнечной были
Один лишь, нежен и чист,
К подножке автомобиля
Приставший кленовый лист.
1935
В бассейн залетевший хрупкий кораблик
Попутного ветра в прошлое ждет.
Снуют по аллеям проворные грабли,
Волну рыжеватую гонят вперед.
В прозрачной чаще обуглились ветки,
Рябиновым пламенем опалены,
И струны стальные вокруг беседки
Для музыки ветра обнажены.
Шуршит, рассыпается ломкое лето,
Уже неживое, в морозном сне,
Уже отлетевшее в облаке света,
Застывшее в вечной голубизне.
И листьев опавших беспомощный шорох
Все дальше, все глуше… Сливаясь со мглой,
Бредет, выметая последний ворох,
Метельщица Осень с черной метлой.
1936
…Откуда-то издалека
Тончайшей наплывая паутинкой…
Из темного, глухого уголка
Крадутся с боязливою заминкой
Ко мне таинственные паучки,
Помедлят на ресницах невидимкой
И заплетут исподтишка зрачки
Лучистой тканью, радужною дымкой.
И вот, кивают призрачные ветки,
И листьев облетевших желтый прах
К ветвям взлетает, и в зеленой клетке
Уж ветер суетится впопыхах.
И вырвавшись из лиственного плена,
Бьет солнечной волной на берегу,
Колышет снова вставшие из тлена
Ромашки скошенные на лугу.
И лето нежное и голубое,
Все облачные паруса раскрыв,
С высокой стаей чаек за собою
Плывет из рая… Сумрачный порыв
Осенней бури ударяет с силой
В заплаканные стекла, и сквозь них
Сереет двор асфальтовый унылый
И мутный день в потоках дождевых.
1936
За горкой — рельсы, дальняя дорога
И паровозов громкая тревога —
Пронзительный, призывный, долгий свист.
А здесь — летящая струя фонтана,
Скамья, еще сырая от тумана,
И падающий с веток ржавый лист.
Играют мирно дети на площадке
С мячом упругим, и с песком, и в прятки.
Пронизан ярким солнцем парк насквозь.
И вытянув негнущуюся шею,
С тоской и завистью глядит в аллею
Прикованный к плите чугунный лось.
…Сбежать бы вниз и не по твердым плитам,
А по сырой земле ступать копытом,
Разбрызгивая воду мелких луж,
Вдыхая запах мха, коры, болота,
Из каменной неволи, из-под гнета —
В лесную, дикую, родную глушь!
1937, Гельсингфорс, Kaisaniemi
«Вокзальной башни — головы совиной…»
Вокзальной башни — головы совиной —
Два круглых, желтых глаза-циферблата
Зажглись над площадью. Просвет заката
Застыл за башней розоватой льдиной.
Огни, огни прозрачно-золотые
Идут по улицам и вдаль уводят,
И буквы огненные в небе всходят,
Врезая в тучи острия цветные.
Расцвет вечерний города зимою.
Снежинки кружатся над фонарями,
Их ловят липы черными ветвями,
Прохожие уносят их с собою.
А под воротами поет слепая.
В негромком голосе — недоуменье,
И снег, небесное благословенье,
К ее ногам ложится, затихая.
1936
«Как пристань, после шумных дней недели…»
Как пристань, после шумных дней недели —
Безмолвное, пустое воскресенье:
Круженье первой медленной метели
И легких слов бесцельное круженье.
Я в строфы связные их не слагаю,
Пусть веют своевольною волною.
Я слушаю, я музыку вдыхаю
Нетронутых снежинок надо мною.
И сердцу замкнутому в том отрада,
Что в жизни шумной, суетной, суровой
Есть нежность ангельская снегопада
И музыка несказанного слова.
1935
Покорно впутываясь в сеть интриги,
В борьбу вступая с автором порой,
Живет, тоскуя, на страницах книги
Судьбой задуманный герой.
Мечтает он о жизни своевольной,
С полей страниц в широкий мир уйти,
Где может быть и холодно, и больно,
Но есть свои слова, свои пути,
Где есть просторы, солнцем залитые,
Мечты осуществленье наяву…
Но автор расставляет запятые
И точкой бьет, и в новую главу
Спешит ввести, и не дает возврата
Очарованью промелькнувших глав.
Страниц все меньше. Уж близка расплата.
Борьба напрасна. Автор будет прав.
И знаю, нет ни счастья, ни свободы
В пределах нам отмеренных страниц.
Нам суждено томиться годы, годы
Завидуя веселым крыльям птиц,
Пока рукой наборщика суровой
Из звездных букв не сложится венец,
Последнее, сияющее слово:
Конец.
1936
I. «Это было, или мне снилось…»
Это было, или мне снилось,
Мне снилось всю ночь до зари,
Как черное небо кружилось,
Покачивались фонари.
Как по улицам шел ты со мною,
И в черной перчатке рука
Сжимала мне пальцы порою,
Так странно, прозрачно-легка.
На углах — изваянья шоферов
В дремотной, знобящей тоске
И отзвук иных разговоров
За нами, вверху, вдалеке…
Вдруг очнувшись у стен церковных,
Я вижу под шляпой впотьмах
Два блика, два пламени ровных
В пустых, обреченных глазах.
Узнаю вас, вечный бродяга,
Сквозь бреда черный туман.
Но где же слуга ваш и шпага,
Трагический Дон-Жуан?
II. «И гнев, и возмущенье, и отпор…»
И гнев, и возмущенье, и отпор.
Но вдруг покорные слабеют руки,
В глазах недоуменье и укор,
А в сердце первые глухие звуки.
Но Донна-Анна повторяет: нет,
Но борется с любовью Донна-Анна,
Не зная, что небесный странный свет
Сквозит лишь раз в лице его обманном,
Что раз увиденный уже обрек
Ее на нерушимое заклятье,
Что Дон-Жуан, ступая на порог,
Навеки разомкнет свое объятье.
Рука дрожит, в груди растет волна
Широкого, горячего напева.
Впервые Донна-Анна смущена,
И в сердце нет ни гордости, ни гнева.
Спешит к окну, чтобы вернуть, простить,
Любить, любить в беспамятстве счастливом…
И на углу пустынном уловить
Лишь край плаща, подхваченный порывом.
III. «Покинутою Донной-Анной…»