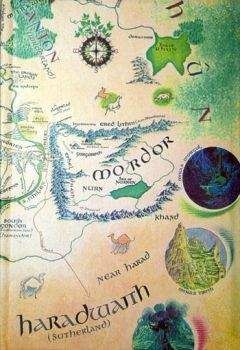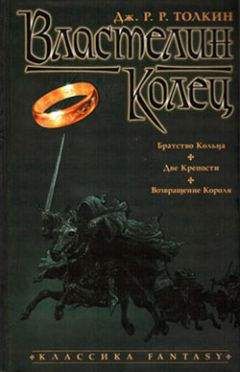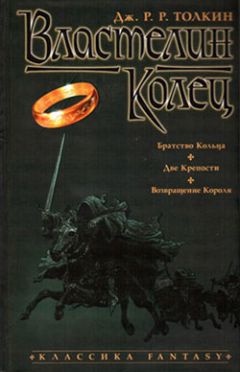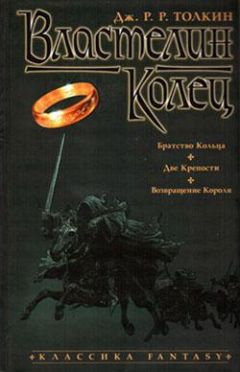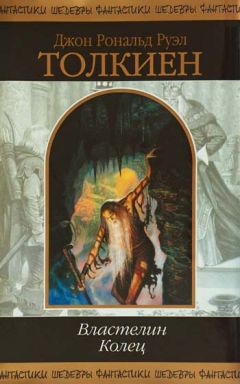Дело в том, что гунн Аттила, враждовавшим с готами во времена Теодориха, тот самый Аттила, чье имя стало нарицательным для обозначения кровавой свирепости. носил, по всей видимости, отнюдь не варварское имя! «Аттила» — уменьшительная форма от готского слова «отец», «атта»; стало быть, Аттила означает «папаша», «батька» или даже «батюшка», а значит, что в победоносных армиях Аттилы служило, по всей вероятности, немало готов, которые находили добычу и успех на поле брани гораздо более привлекательнее всех разговоров о спасении Запада, Рима или цивилизации как таковой! Как и в случае со словом duhitar — «маленькая доярка», или словом камм, родственным слову hammer, это имя уже рассказывает целую историю. Далее в цитируемом письме Толкин говорит, что именно на основе отдельных слов и создавался «Властелин Колец», и работа над ним шла именно с постоянной опорой на отдельные слова. Толкин не составлял никакого предварительного плана — он просто пытался «создать такой контекст, в котором обычное приветствие звучало бы как злен сиила лумэнн омзнтиэлмо». Литературные критики могут отнестись к его словам с недоверием, но филологи (если таковые еще остались) должны понять, о чем идет речь.
Атта, Аттила; что несет в себе имя? Один из ответов на этот вопрос звучит так: иной раз имя чревато ни много ни мало как тотальной переоценкой истории. Поучительно взглянуть на старые и новейшие издания книги Эдварда Гиббона «Закат и падение Римской империи» (первое издание вышло в 1776–1788 гг.). Благодаря множеству греческих и римских историков, а также Иордану, Гиббон знал о готах, но доступа к другой информации у него не было — да он и вообразить себе других источников не смог бы. «У неграмотных варваров, с их частыми и дальними переездами с места на место, — отмечает он с высокомерием, всегда присущим классической образованности, — память о былых событиях не могла сохраняться долго». О великом готском короле IV столетия Германарике Гиббон говорит: «Имя Германарика почти полностью погрузилось сегодня во мрак забвения». И все же это имя не осталось во мраке забвения навсегда. Оно всплыло, и вполне узнаваемое, прежде всего в «Беовульфе» (эта поэма была впервые опубликована только в 1815 году), где оно звучит как Эорме(а)нрик. То же самое имя, принадлежащее тому же самому историческому деятелю, упоминается в древнеанглийских стихотворениях «Деор» и «Видсид», но уже обрамленное небольшими историями[39]. В форме Эрменрих это имя перешло в средневерхненемецкие поэмы «Побег Дитриха» (Dietrichs Flucht), «Смерть Альфарта» (Alpharts Tod) и многие другие. Однако самую заметную роль Jörmunrekkr (Ермунрекк) играет — в качестве одного из главных героев — в древнескандинавских песнях «Старшей Эдды», эпической поэмы, которая до 1640 года пролежала незамеченной в доме исландского фермера и была полностью опубликована только в 1818 году благодаря заботам Расмуса Раска. «Неграмотные варвары» оказались не так забывчивы, как полагал Гиббон. По крайней мере, они умели запоминать имена, и, хотя эти имена подвергались тем же звуковым изменениям, что и обычные слова, ни один поэт древности никогда не позволил бы себе вынести на людской суд нечто столь же отъявленно фальшивое, как «Германарик» Гиббона. Исходя из совместного свидетельства старых английских, исландских и германских поэм можно даже узнать, как звучало настоящее имя короля, хотя в настоящем своем варианте — готском — оно нигде зафиксировано не было: Айрманарейкс.
И здесь, как в случае с Аттилой, имя щекочет нервы и разжигает любопытство, хотя, возможно следы этих филологических страстей так глубоко погребены в примечаниях редакторов и заключительных фразах научных работ что их можно и проглядеть. Рассказы о смерти Германарика очень отличаются друг от друга. Римский историк утверждает, что король готов покончил самоубийством около 375 года по P. X. из страха перед гуннами. Иордан рассказывает историю посложнее; в ней речь идет о предательстве, наказании и отмщении. Древние скандинавские песни, брлее жестокие и менее обезличенные, настаивают на гом, что на Ермунрекка напали его зятья, чтобы отомстить за убитую сестру — его жену. Готы с трудом одолели зятьев (забросав их камнями, поскольку как другое оружие не могло причинить им вреда), но те успели отомстить: Ермунрекк остался жив, но лишился рук и ног, превратился в живой труп, «хеймнар». Эта последняя история совершенно неправдоподобна. Однако в некоторых деталях она отчасти соответствует рассказу Иордана. Возможно, коллапс готской империи в четвертом веке нашей эры действительно сопровождался какими–то из ряда вон выходящими, исполненными трагизма событиями. Филологу, сравнивающему эти версии, особое наслаждение доставляют попытки угадать: что за странные цепочки превращений, какие причуды народных пристрастий превратили короля в разбойника и негодяя? Может быть, побежденные готы решили сделать из него козла отпущения. А может быть, его ославили как женоубийцу, чтобы замять вину готов, которые переметнулись к врагам и присоединились к «кочевникам с Востока»[40] — к тем, кто величал короля гуннов «папашей»? Может быть, это крымские готы напели скандинавам из варяжской стражи, служившим при дворе греческого императора, песню об Эрманарике? Толкин пристально следил за всеми исследованиями по этому вопросу. Например, он регулярно приобретал, по мере их выхода в свет, отдельные книги многотомного издания Германа Шнейдера «Германская героическая сага» (1928–1934)(46), а в 1930 году заявил, что у него студенты изучают готский не только ради постижения законов звукоизменения, но и «в качестве главного источника поэтического вдохновения, каким он был для древних англичан и скандинавов»(47). Как сказал Толкин в процитированном выше письме, легенды о героях увлекательны и сами по себе, но в то же время представляют собой ценное сырье для «рациональной и точной науки».
Филология пролила свет в глубину Темных Веков. Естественно, те места из Гиббона, где речь шла о готских вождях, приходилось теперь переиздавать с осторожностью (новое издание, пересмотренное Дж. В. Бэри, вышло в 1896 году). Но академические предшественники Толкина не смогли вовремя заметить, что причина упадка их предмета кроется в чересчур широком размахе филологического воображения; и это симптоматично. На одном полюсе филологии находятся умозаключения, выведенные учеными на основе буквы языка. Этим ученым не приходилось теряться в догадках, кто автор того или иного текста — гот, лангобард, западный сакс, обитатель Кента или нортумбриец? Отраженные в тексте соответствующие звукоизменения исключали ошибку. На другом полюсе филологии — готовность филологов высказывать категорические суждения о том, существовали ли в реальности тот или иной народ или империя, основываясь исключительно на поэтических традициях и ареалах распространения тех или иных наречий. Филологи находили для себя полезные сведения и романтику в любых древних песнях или обрывках древних текстов. Так, уже много столетии известно, что Lex Burgundionum[41] короля Гундобада открывается спискам венценосных предков этого монарха: Гибика, Гундамар, Гислахариус и Гундахариус. Понадобилась филология, чтобы отождествить первого, третьего и четвертого с Гернутом, Гизельхером и Гунтером германского эпоса — «Песни о Нибелунгах»[42]. Одновременно стало очевидным, что в эпосе заключалось зерно исторической правды: в 430–х годах нашей эры гунны действительно разбили в пух и прах бургундского короля и его армию (как мимоходом отмечал еще Гиббон), некоторые реальные исторические лица действительно носили некоторые из упоминаемых в эпосе имен, а с V до XII столетия действительно существовала непрерывная поэтическая традиция, несмотря на то, что большинство из порожденных ею произведений исчезло прежде, чем их записали. В своих собственных лирических произведениях, написанных в VI веке, Сидониус Аполлинарис, епископ Клермонтский, поминает бургундские песни с отвращением. Гиббон называет его «ученейший и красноречивейший Сидониус». «С какой радостью отдали бы мы сегодня все его стихи за десять строчек из тех песен, в которых эти «длинновласые, семифутовые, лук поядающие варвары» славили, возможно, щедрость Гибики или повествовали о том, как пали в последней страшной битве их отцы, сражаясь бок о бок с Гундахариусом», — куда более кисло писал о Сидониусе Р. У. Чэмберс[43]. Это изменение взгляда на вещи служило признаком огромного, хотя и непродолжительного, сдвига поэтических и литературных интересов от классики к фольклору. Это изменение показывает также, почему филология представляется некоторым «благороднейшей из наук», «ключом к духовной жизни народа», «не просто бесполезным смешением языкознания и литературы, а чем–то гораздо более значительным».