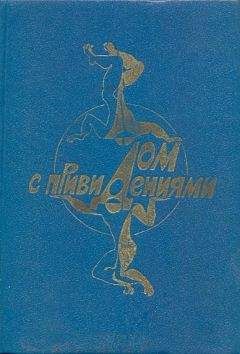В самом деле: в этих произведениях больше живого чувства и поэтических красок. Но это общее их свойство не помешало им оказаться на противоположных концах того спектра жанров и направлений, который развернут в статье Стругацких. В повести «Трудно быть богом» драматизм и лиричность хорошо уживаются с научной фантастикой, тогда как «Улитка» — типичное порождение фантастики как приема, которую Стругацкие почему-то именуют реалистической. В основе фантастических коллизий первой повести, по моему мнению, — актуальная ныне истина научного социализма об авантюризме экспорта революции, о непреложности предпосылок социального прогресса внутри самого общества. «Космизм» фантастического обобщения позволяет соотнести повесть с многими явлениями мнимой революционности. Предостережения же «Улитки» настолько темны и сумбурны, что писателей даже обвиняли в сочинении пасквиля на советскую действительность[454]. Думается, это такая же крайность, как и противоположная попытка — переадресовать фантастические иносказания капитализму[455]. В фантасмагориях «Улитки» можно вычитать все, что угодно: хотите, понимайте это как сатиру на капитализм, хотите, как сатиру на извращения социализма, а хотите — и как нечто третье, по выражению Стругацких, «даже вовсе невозможное»… А между тем предисловие ко второй части этой повести, написанное А.Громовой, внушает, будто фантастика «Улитки» более высокого ранга, только, мол, она «рассчитана на… квалифицированных, активно мыслящих читателей»[456].
М.Е.Салтыков-Щедрин, кого А. и Б.Стругацкие в одной своей статье назвали среди классиков, чьему художественному опыту они хотели бы следовать, утверждал: «…чтоб сатира была действительно сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено её жало»[457]. В «Улитке» нарушены сразу оба условия. Здесь нет и следа той идеологической определенности, с какой писатели выразили свое, пусть рационалистическое, представление о коммунизме в «Возвращении» или с какой нарисовали в «Хищных вещах века» предостерегающую, пусть и спорную, модель мещанского «коммунизма». А. и Б.Стругацкие пренебрегли самым главным в щедринском опыте — реализмом художественного метода.
Применительно к фантастике реализм эквивалентен научности анализа (прогноза) поднимаемых проблем. Если вкладывать в определение «реалистическая фантастика» хоть сколько-нибудь отвечающий ему смысл, то мера научности фантазии и есть принципиальная мера реализма. Если «бытовик» ещё может выявить тенденцию, эмпирически наблюдая стоящую перед его глазами действительность, то фантаст, когда он надеется проследить эту тенденцию в воображаемых обстоятельствах, посредством одного лишь интуитивно подобранного условно-литературного приема, заведомо обрекает себя на недостоверность, т.е. на отказ от реализма. А по справедливому замечанию З.Файнбург, мера достоверности, мера научности фантастических гипотез есть мера прогрессивности социально-фантастического произведения[458].
С одной стороны, А. и Б.Стругацкие как будто за такую фантастику, которая показала бы, по их словам, «вторжение будущего в настоящее», а с другой, — они не дают ей сколько-нибудь надежного инструмента. Заголовком своей статьи — «Давайте думать о будущем» — писатели как будто выступают против плоского изображательства «предельщиков», а всем содержанием толкают опять же к изображательству только другого свойства — неуправляемому.
В раннем творчестве А. и Б.Стругацких научно-фантастическое моделирование будущего тоже было довольно приблизительным, и оттого-то, думается, писатели так легко с ним расстались. Недостаточно обоснованную научную посылку они произвольно заменяли условной. Стругацкие, например, отстаивали свое право переносить в будущее наших лучших современников, — мол, им уже по плечу коммунистический мир. На деле, однако, в их повестях оказалась довольно пестрая компания, мало согласующаяся с представлением о новом человеке. Человек будущеего, заметил в этой связи И.Ефремов, явится «продуктом совершенно другого общества»[459]. Метод действительно научной фантастики предполагает, что уровень личности должен соответствовать уровню общества, в котором она живет и действует. А если, заключает И.Ефремов, твои герои «в чем-то кажутся искусственными… в этом, наверное, сказались недостатки писательского мастерства. Но принцип правилен»[460].
Принцип научности нисколько не отменяет того, чтобы современная фантастика использовала весь широкий спектр допущений — от строго обоснованных до заведомо чудесных. Без этого невозможно настоящее искусство, за которое ратуют А. и Б.Стругацкие и о котором забывают ригоричные блюстители строгой научности. Но подобно тому, как не дело науки обосновывать сказочные чудеса, так и литературная условность не должна претендовать на то, что под силу лишь хорошо аргументированной гипотезе. Вот в эту «тонкость» и упирается методологический изъян сторонников вненаучной или условно-литературной фантастики.
Между тем «Литературная газета», подытоживая дискуссию, уверяла, что «все направления хороши в той мере, в какой они помогают решению главных задач всей нашей литературы — задач коммунистического воспитания»[461]. В том-то и дело: в какой мере? Ведь вненаучное направление заведомо снимает с себя важнейшую, по справедливому определению «Литературной газеты», задачу нашей фантастики — «показ будущеего… с позиций научного коммунизма»[462], а механическая научная фантастика тоже не обеспечивает решение этой задачи. На поверхность дискуссии вышли такие «сакраментальные» альтернативы, как «научно — не научно», «художественно — не художественно», «луч мечты или потемки», которые возвращали спор на давно пройденный уровень. На периферии полемики оказались и не нашли отражения в редакционном резюме (статьи, например, З.Файнбург, Е.Тамарченко), ставившие действительно актуальные вопросы: как понимать научность фантастики разных направлений и в чем специфическая художественность научной фантастики.
Сегодня эти вопросы группируются вокруг категории фантастического прогноза — этой стародавней и вечно новой «тайны всех тайн» фантастики, уже чисто психологически более всего притягивающей читателя, ибо не только ни один вид искусства, но и вообще ни один род человеческой деятельности до недавнего времени не ставил своей непосредственной целью приподнять завесу грядущего. Интерес к прогностической функции в последнее время заметно вытесняет все ещё модные туманные рассуждения о мечте как сущности фантастики, или об условном приеме как универсальном методе, или о том, что фантастика просто отворяет дверь в неведомое, и т.д.
Впрочем, интерес к природе научно-фантастического художественного прогноза никогда не иссякал. В монографии Е.Брандиса о Жюле Верне научные предвидения оценивались как важнейший элемент литературного новаторства великого фантаста. В интересных исследованиях писателя Г.Альтова даны были многочисленные примеры высокого коэффициента осуществления фантастических предвидений Жюля Верна, Герберта Уэллса и Александра Беляева[463]. В статье писательницы В.Журавлевой «Контуры грядущего»[464] было показано соотношение методов художественного и научного прогнозирования. В монографии Ю.Кагарлицкого об Уэллсе и в статье физика В.Смилги «Фантастическая наука и научная фантастика»[465] выяснено взаимодействие научного прогноза с литературной иллюзией и показан переход условно-поэтического предвидения на уровень научной гипотезы. В статье Е.Брандиса «Научная фантастика и моделирование мира будущего»[466] и особенно в упоминавшейся статье З.Файнбург «Современное общество и научная фантастика» развернута общая типологическая характеристика художественного научно-фантастического прогноза по сравнению с чисто научным. Во введении к моей монографии «Русский советский научно-фантастический роман» сделана была попытка определить ведущее место предвидения среди прочих специфических функций научной фантастики (а вовсе не дать серию противоречивых определений «жанра», критике которых оказалась посвящена одна из рецензий на книгу)[467].
Нет возможности привести все работы, обсуждающие прогностическую функцию как центральный момент метода научной фантастики. Надо только сказать, что не все авторы согласны с такой её трактовкой. Е.Тамарченко, например, считает, что «основной функцией социально-философской фантастики является выбор — понятие более широкое, чем прогнозирование. В переломные моменты истории (подразумевается: истории, фантастически измененной, — А.Б.) открываются горизонты буквально во всех направлениях — в прошлое так же, как в будущее»[468]. Читатель вместе с героями производит выбор того или иного направления, того или иного пути. Е.Тамарченко — сторонник действительно обоснованного выбора: он хорошо сознает, что читатель потому и получает возможность примеривать фантастические ситуации к каким-то реальным, что на эти последние опиралось воображение автора. Но тогда, стало быть, в основе «категории выбора» — все та же категория прогноза, только в усложненном и развернутом варианте — направленная от настоящего одновременно и в будущее и в прошлое.