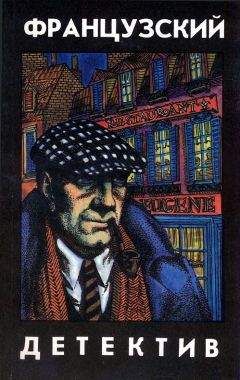Валерия Пустовая
Великая легкость. Очерки культурного движения
© Пустовая В. Е., текст, 2015
© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
Конец большой истории в литературеПастух поколения Роман Сенчин счел это внутренним, корпоративным сюжетом. Вызвав на разбирательство трех стремительно прибавивших в весе молодых писателей, он поставил им на вид уклонение от настоящего, уход в историю. «Пресловутое писательское развитие»[2], – сожалел Сенчин, сам не замечая, как же так исподволь, не подумав, согласился с тем, что исторический роман для подававшего надежды автора – долгожданное оправдание надежд. Логику эту, оказалось, разделяют и критики за рамками поколенческих интересов. Одной из первых отозвавшаяся на прилепинскую «Обитель» Галина Юзефович подвела баланс: новая книга автора, мол, «с большим запасом компенсирует все выданные ему ранее авансы, без малейших сомнений и перемещая его в главные писатели современности»[3]. Нашлись и премиальные доводы. Поглядев, как в минувшем году молодым писателям Ксении Букше, Сергею Шаргунову и Захару Прилепину вручили «НацБест», «Москву-Пенне» и «Большую книгу» за, соответственно, биографию советского завода, сцены девяносто третьего года и соловецкий романс, придешь-таки к выводу, что исторический эпос – вроде тройного тулупа на льду, обеспечившего не первое десятилетие подраставшим авторам «перемещение» в загон для взрослых.
Но стоит перешагнуть загородки, чтобы увидеть: проблема вытеснения настоящего прошлым не этап писательского развития и даже не тренд года, а предмет литературной полемики на всем протяжении ее постсоветского существования.
Принужденность большой книги – и непригодность ее к решению вопросов актуального времени: губительная антиномия, из-под власти которой не получается вырваться так же, как освободиться от дурной цикличности самой российской истории. Новейшую нашу литературу заело, и году последнему, 2014-му откликается последний советский, 1991-й. Сергей Костырко отмечает, что «под романом у нас стало пониматься некое полуритуальное литературное действо»[4], и Александру Агееву в свое время привиделся магический обряд: «цветение» золотого девятнадцатого века, писал, «заворожило, заколдовало русскую литературу. С тех пор она идет вперед с лицом, обращенным назад»[5]. Агеев торжествующе наблюдал, как форма «золотого стандарта» «начинает распадаться изнутри», – Костырко вынужден поумерить пыл, отмечая, что жанр романа становится «все более и более неподъемным для современного писателя». Все более и более, но все еще не до конца. И на последней по времени конференции Русского Букера обсуждали, «хорошо ли сделан русский роман»[6], тогда как наиболее плодотворное, новаторское, прорывающееся к настоящему движение литературы направлено на то, чтобы роман не сделать, а развалить.
В судьбе «великого национального романа»[7] интереснее всего теперь этот процесс естественного распада формы – той самой, которая, по точному выражению Евгения Ермолина, казалась «стабильной, сложившейся, безопасной»[8]. Всякий, кто берется сегодня за большую книгу, компрометирует ее – чем нацеленней, тем удачней.
Судьба большой формы с вопросами большой истории оказывается крепко связана: и то и другое – источники готовых модулей самосознания, составляющие того, что Агеев назвал «комплексом наследников и владельцев “великой” литературы». Его клич, брошенный «моему же веку, будь он хоть “пластмассовый”», о «соприродной» моменту литературе теперь, четверть века спустя, набирает особенную силу. Не только большую форму теснят емкие жанры-флешки, но и наполнявшее ее эпохальное прошлое, долгие годы бывшее главным предметом тяжб между литературными лагерями, потеснено случившимся наконец настоящим. Время большой истории сегодня начало новый отсчет. Проживание его в реальном пунктире дней – последнее средство от приворота исторического эпоса. И куда более эффективный способ понять суть истории, чудо ее открытости и неповторимости, упускавшееся из виду, пока от времени не ждали нового, прошлое сворачивали в цикл, а себя мнили легко опознаваемыми проекциями исторических прецедентов. Незавершенная история потребует неостывших, нестабильных – неготовых форм описания. И вдруг сообразишь, что все наши большие книги о большой истории были романами антиисторическими, и их приемы освоения прошлого не прорывали, а заделывали туда ход, изолировали живых от канувших, замыкали время.
Вместо эпилога. Средства имитации эпоса
Историческое направление легко разделяется на ряд проторенных путей художественного познания – и сам этот факт, что каждой опубликованной концепции прошлого можно в книжном ряду подобрать рифму, говорит о схематизации исторической мысли в литературе. Но прежде чем поговорить о разработанных приемах надувания эпоса, поговорим о прямом надувательстве. О некоторых курьезных проявлениях кризиса большого исторического романа.
«Производство второсортных симуляций»[9] на ниве эпоса смешно изображал критик Агеев: очень, писал, «хочется, по примеру классиков, ворочать поражающие воображение гранитные глыбы, но ведь и сил уже нет, и глыбы размолоты историей в невыразительный серый щебень, а потому тяжести, которые сейчас перемещают с пародийной серьезностью некоторые современные “классики” <…> изготавливаются из картона». Но особенно весело наблюдать, как картонная подложка становится штампованной деталью гранитного памятника.
Во-первых, аллегория вместо концепции. Модерново мыслящая критика, вроде Игоря Гулина, борется с «пресловутым “романом идей”», не успевая заметить, что оппонент давно переменил природу. «Бахтинская полифония» сменилась монообразом, который автор, как ключ от дома, бесхитростно оставляет на самом входе, под крылечком. Мысленный волк в романе Алексея Варламова «Мысленный волк», вода в романе Сергея Кузнецова «Хоровод воды», мотыльки в романе Андрея Иванова «Харбинские мотыльки», батист в романе «Батист» Бориса Минаева – все это разом и лейтмотив, и историософия, и скрепляющее разорванные эпизоды романа вещество. Смысловое напыление, создающее впечатление многослойности высказывания, но не выводящее читателя на настоящую глубину. Слишком уж доступны эти образы прямой трактовке: мысленный волк – морок лжеучений, вода – прапамять, мотыльки – идеологическая пурга, батист – тонкий покров домашней повседневности, прорываемый общественными потрясениями. Цепляет внимание и то обстоятельство, что первые три образа сигналят о бессознательном – заведомо работают на уровне, где путаные интуиции времени не оформились еще в рационально обоснованные концепции. Перед нами не идеи, а интуиции исторического времени, чуйка вместо мысли – визионерство, которое могло бы сориентировать на острие исторического момента, но в давно расчерченном пространстве прошлого может разве с толку сбить, дабы читатель не заметил, до чего жидкими гвоздями крепили многоэтажный эпос.
Во-вторых, персонификация истории вместо авторского всеприсутствия во времени. Ловкий способ просеять историческую память, сохранив видимость масштабного замысла, – ввести в исторический роман героя с расширенной исторической памятью: медиума, «старого», «бессмертного». Прием, как и предыдущий, манипулирует чувствами читателя, срабатывая без посредства разума. Потом, по выходе романа, автор будет одергивать вас, как Максим Кантор – критика Курчатову, беседовавшую с ним по следам эпопеи «Красный свет»: «Вы приписываете автору мысли и слова одного из моих персонажей»[10]. Но в романе, где восстановление исторической правды объявлено главной задачей, читателю трудно не посчитать верховной точку зрения персонажа, изрекающего: «Я и есть история», даже если говорит нацист, секретарь Гитлера. К авторитету этого долгожителя, персонифицирующего XX век, прибегает и автор. Кто бы еще помог ему подобраться к идеологическим оппонентам с обнаженного фланга и скомпрометировать, например, идеи Ханны Арендт – образом ее «некрасивой» головы, стучащей в стену выбранного для интимных свиданий отеля?
К волшебному помощнику в исторических затруднениях прибегал и Алексей Иванов. Когда главный герой «Сердца Пармы», князь, выслушав спор церковников о Стефане Пермском, делает свой выбор, он кажется интуитивным, но в романе подкрепляется неопровержимым аргументом – персонажа-«хумляльта», «бессмертного», засвидетельствовавшего, что древнерусский святой «геройства искал, а не духовного подвига».