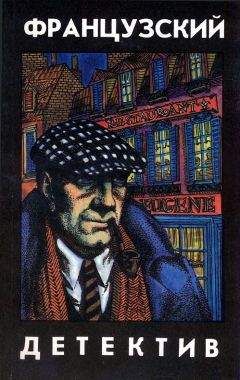«Пишут: «роман», а в уме держат «эпопею», а на выходе получают как раз «повесть» или близкую ей «хронику»», – забавлялся Агеев внутренним измельчением жанра. Расхождение задач исторического романа с вопросами истории, расхождение интересов автора с задачами эпоса, расползание формы и сути, расслоение крупной формы продолжается, и каждая новая большая книга, перерастающая объемом смысл, приближает переворот: рождение «связи всего» из духа момента, аккумуляции большой истории в малом жанре.
1) Узнавание. Мистическая сага
(Алексей Варламов «Мысленный волк» – Борис Минаев «Батист»)
Наиболее распространенный тренд ярче всех проиллюстрировал Юрий Арабов. Его роман «Столкновение с бабочкой» читается как манифест исторической прозы, работающей благодаря узнаванию. На презентации книжного издания в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction он так и сказал: новый роман – выражение его гражданской позиции. Хотел, можно предположить, о Путине и Навальном высказаться, да зачем-то опять написал о Молохе и Тельце.
«Столкновение с бабочкой» – история альтернативная, политическая программа, выраженная средствами ретроутопии. В лице Николая Второго, не отрекшегося от престола, Арабов предложил современности тип нового лидера, который сам настолько синхронизировался с эпохой, что никакой революции не обогнать. Царь-гражданин, переехавший с Дворцовой на Гороховую, оставивший Ленина набирать брюшко на госслужбе и постепенно укоренивший в империи компактную, европейскую стилистику власти, вступает в союз не только с политическими врагами – с самой историей. И роман о нем получился до того компактным, недвусмысленным, что его хочется немедленно применить к современной России. Исторические фигуры превращаются в аллегории, которые вроде ясно, каким смыслом наполнить. Кажется, что разберешься с Ульяновым, Николаем и кайзером – и жизнь твоя переменится к лучшему.
Этот эффект опознания прошлого как моделированного настоящего поэт Мария Степанова считает ключом к сегодняшней России, где ничто не бывает вполне собой, не живет теперешним моментом, а значит, и не сдвигается, принимая остывшие, жесткие формы прошлого. Надо сказать, стилистически ее эссе[15] само подчиняется общей логике: оставляет ощущение той самой «завороженности прошлым» (Липовецкий), с которой пытается справиться автор. Прошлое и здесь остается энергетическим источником, иррациональной приманкой. Наверное, потому, что для настоящего, для неповторимого надо еще наработать такой же богатый и глубокий слой образов, чувств, ассоциаций. Степанова в эссе рекомендует евангельски «радоваться», Дмитрий Данилов в последнем романе пробует «сидеть и смотреть», поп-журналистка Элизабет Гилберт в давнем хите наказывает «есть, молиться, любить» – пока эти разноприродные в литературном отношении опыты работы с настоящим не сложились в направление, способное конкурировать с валом исторических реконструкций и имитаций.
«Прошлое – магия», – предупреждает Степанова, а Липовецкий допугивает, цитируя Александра Эткинда[16], «магическим историзмом»: «Эткинд диагностирует мейнстриму меланхолию, понимаемую <…> как “неспособность отделить себя от утраченного; <…> когда в настоящем нет выбора, историческое прошлое превращается во всеобъемлющий нарратив, который больше затемняет настоящее, чем объясняет его”». Пытаясь рационализировать «завороженность прошлым», эти авторы апеллируют к замещенной исторической памяти: сегодняшние мы – подселенцы в «квартиры бывших людей» (Степанова), неправомочные преемники «жертв советского террора» (Липовецкий). Убедительное единомыслие это, впрочем, трудно притянуть за уши к рассматриваемым нами романам – «исторический опыт» здесь и впрямь, по выражению Липовецкого, «кошмарное дежавю», но возвращает оно к утраченному еще до заступления советской власти.
То, что Арабов, Варламов, Минаев так и этак тасуют одни и те же карты – царская семья, убийство Распутина, Первая мировая, крах старой империи, революционное лихо, – объясняется не политикой, а художественной эргономикой. Проза отметила юбилей четырнадцатого года вслед за публицистикой: напророчествовала, оглядываясь. Романы, построенные на узнавании, оставляют ощущение безграничной открытости, заложенной, однако, не в конструкции, а, заведомо, в уме читателя. Пока перед глазами публики мелькают новости, воображение прокручивает роман, что позволяет и журналистам, и писателям уклониться от оперативного и перспективного анализа, заменив его набором век назад оправдавшихся чувствований. Романы сгущают «тень неотменимости, приговором висящую над сегодняшним днем» (Степанова).
Отсюда намеренная нечленораздельность художественного мира, служащая усилению мистического, профетического – обреченного жизнеощущения начала века. Авторов трудно поймать на какой-никакой политике – восторг и ужас в отношении наступающего будущего, а здесь это значит: нашего прошлого, – смешаны в нераспознаваемых пропорциях.
Тревожит готовность к войне, выраженная хозяйкой гостиницы – олицетворением старой Европы, – но вдохновляет «глубокая любовь к неизвестности», осознанная ее молодым постояльцем, едва не переплывшим Ла-Манш (Минаев). Роман Минаева прошит неизвестностью – пунктирным, поверх всех событий пущенным швом. Одна из главок романа звучит прямодушно, как басня: нас учит любви к неизвестности – к «будь, что будет» – барышня, лишающая себя искусственно восстановленного девства. Роман распростирается к будущему, хотя знает, что в обетованном завтра приближается метка «Сталин». История освящена неотвратимостью свершенного, и готовность к неизвестности – это готовность «жить, жить, жить», несмотря ни на какие повороты винта. Именно что «радоваться», как предписывает Мария Степанова. Эту готовность, однако, в мире романа аннигилирует сожаление о «домашнем мире» – сметаемом неизвестностью приюте истинной радости. Плач о «замкнутом, но не душном» мире семьи, где можно было жить, «не замечая времени», – иными словами: поперек будущего, наперекор той самой неизвестности, которую автор сделал девизом истории. Историческое и домашнее не уживаются, их конфликт – сюжет и романа Минаева, и эссе Степановой, но если в эссе возможен умозрительный выбор в пользу «нерассуждающей домашности», то в романе, заточенном на приятие неотвратимого, писателю приходится жертвовать батистом в пользу сукна, миром для войны, домом для истории – фаталистское влечение к неотвратимому оправдывает свершенное в прошлом и разрешает не трепыхаясь дожидаться своей участи в настоящем.
Менее отчетливо выражена антиномия в романе Варламова. На месте рассудочно понимаемой «неизвестности» тут артистические категории «бега» и «танца»: недужит «бегом» главная героиня Уля, осаленная в детстве нечистой силой, исполняет духовный «танец» молящийся за Россию Распутин. Сдвиги времени уравновешены его подмораживанием, записанным в романе на счет фантастических агентов будущего, тоже, поди ж ты, готовящихся к войне – только уже Второй мировой: «Так устроена история. И мы должны начать готовиться к этой войне уже сейчас, чтобы не проиграть снова. <…> Нам нужна Россия с другим народом, который будет иначе организован, мобилизован, воспитан. Народом, который не посмеет бунтовать против своей власти, когда эта власть поведет войну. <…> А никакой мировой революции нет и не будет. Революция – это сказка для дураков и блаженных романтиков». Можно подумать, что Варламов вступает в заочную полемику с Минаевым: трактует историю как жертву неизвестностью – во имя выживания общероссийского дома. Но это, как говаривал Кантор, всего лишь реплика персонажа – одного из сеятелей революционного брожения. Советская Россия, таким образом, предстает и антитезой, и итогом духовной смуты в России царской.
Но нас-то волнует смутность художественного мира романа. Для писателя христианской ориентации, каким несомненно выступает Варламов – лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, постоянный респондент журнала «Фома», да и название «Мысленный волк», заимствованное из последования молитв к Святому Причастию, маркирует роман как духовное предупреждение, – так вот, для такого писателя, особенно в пору обостренной путаницы светских представлений о вере, написать роман с не проясненными этическими приоритетами – значит подыграть соблазну, подбавить домыслов. Причем самому стать первой их жертвой.
Амбивалентность – художественная идеология романа, здесь всё соблазнительно, потому что разом чарует и гниет. А точка восприятия – источник авторитетного суждения – дрейфует так бездумно, что это не воспринимается как прием. Скажем, в романе, где автор самоустраняется и до конца не ясно, кому же люб Распутин – Варламову или его герою Христофорову, – кажется досадной оговоркой вдруг вырвавшийся из-под пера традиционный взгляд «сверху»: «Василий Христофорович замолчал. Дядя Том молчал тоже. И было непонятно, что делают двое этих господ – один большой, полнотелый, сырой, а другой маленький, сухой, тонкий, как мальчик или старик», – но кому «непонятно»? Откуда в этом противостоянии наблюдатель, кому в перемежающем личности и сущности романе может быть доступна такая эпическая позиция над схваткой?