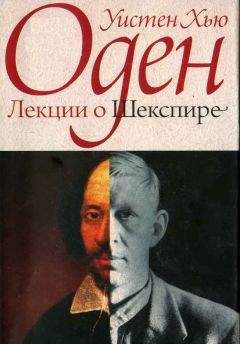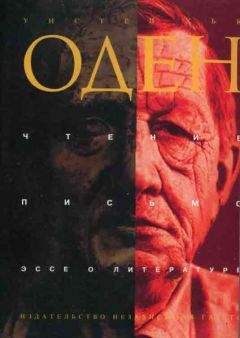В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ[1]
На страданья у них был наметанный глаз.
Старые мастера, как точно они замечали,
Где у человека болит, как это в нас,
Когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали,
Как рядом со старцами, которые почтительно ждут
Божественного рождения, всегда есть дети,
Которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд
У самой опушки, —
художники эти
Знали — страшные муки идут своим чередом
В каком-нибудь закоулке, а рядом
Собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду содом,
А лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом.
В «Икаре» Брейгеля, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь — словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей, —
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно
Воды, а изящный корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем, все дальше уплывал от земли…
Проснувшись на утро седьмого дня, огляделись,
Осторожно понюхали воздух, и тот, чья ноздря
Была самой чуткой, признал, что этого парня
Больше нет, — опасаются зря.
Травоядные, паразиты и хищники вели наблюденье,
Перелетные птицы поведали, возвратясь:
Как сгинул, — повсюду одни лишь воронки
И на пляжах чернеет мазутная грязь.
Везде железное крошево и руины —
Вот все, что осталось в память о том,
Чье рожденье на шестой день сделало
Ненужным временем то, что было потом.
Ну что ж, этот парень никогда не казался
Творением, которое было бы всех умней:
Ни изящества, ни разуменья в отличие
От рожденных в предшествующие пять дней.
Теперь все вернется в свое натуральное русло —
Его Наглейшество обратилось в бесплотную тень.
Наконец-то выглядит, как ему подобает,
День отдохновения — Седьмой День,
Самый прекрасный, счастливый и беззаботный…
Вот тут-то и грянул выстрел, как гром!
И вся субботняя белиберда пошла прахом,
И вместо Аркадии получился Содом:
Ибо тот, кого они создали, — этот парень
Не сгинул, а возвратился в их дни,
И был еще беспощаднее, чем он им казался,
Еще богоподобнее, чем полагали они.
Он был слугой — его не замечали,
Он тенью был людских страстей, тревог.
Но в нем, как ветер, пели все печали —
Вздыхали люди: это плачет бог!
А бога славят. И тщеславным стал он,
Стал почитать за песни сущий бред,
Рождавшийся в его уме усталом
Среди домашней суеты сует.
Поэзия не шла к нему, хоть плачь,
Теперь он изучал свои невзгоды
И безделушки гладкие строгал.
По городу бродил он, как палач,
Людей встречая, думал: вот уроды!
А если встречный злился, — убегал.
Я знаю: звездам в небесной мгле
Не важно, есть ли я на земле.
Может, и впрямь бесстрастность добрей,
Чем пристрастье людей и зверей.
Представьте, звезды влюбились бы в нас,
А мы бы на них не подняли глаз!
Скажу, никого и ничто не виня:
Пусть больше я люблю, чем меня.
И я, поклонник звезд и планет, —
Хотя до меня им и дела нет, —
Глядя на них сейчас, не скажу:
Без этой звезды я с ума схожу.
Если бы звезды настигла смерть, —
Оглядывая пустынную твердь,
Я бы свыкся с тем, что она нежива,
Хоть на это ушел бы не день и не два.
КУЛЬТУРА ПЛЕМЕНИ ЛИМБО[5]
По мнению туристов, племя лимбо
На первый взгляд почти на нас похоже,
Жилища их практически опрятны,
Часы идут почти как наши, пища
Почти что аппетитна, но никто
И никогда не видел их детей.
В наречье лимбо, по сравненью с нашим,
Есть больше слов, где тонкие оттенки
Обозначают всякие «чуть-чуть,
Ни то ни се, почти что, что-то вроде,
Чуть больше или меньше, где-то рядом…».
В местоименьях лимбо нет лица.
В легендах лимбо рыцарь и дракон
Грозят друг другу саблей и клыками,
Промахиваясь лишь на волосок,
Смерть с юношей не свидится никак:
Она прошла чуть раньше, он чуть позже,
Кошель волшебный потерял владельца.
«Итак, — читаем мы в конце, — принцесса
И принц почти-что-все-еще женаты…»
Откуда, почему у них такая
Любовь к неточностям? Возможно, каждый
Из лимбо занят самопостиженьем?
А разве знаешь точно — кто ты есть?
Я сижу в ресторанчике
На Пятьдесят Второй
Улице, в тусклом свете
Гибнут надежды умников
Бесчестного десятилетия:
Волны злобы и страха
Плывут над светлой землей,
Над затемненной землей,
Поглощая личные жизни;
Тошнотворным запахом смерти
Оскорблен вечерний покой.
Точный ученый может
Взвесить все наши грехи
От лютеровских времен
До наших времен, когда
Европа сходит с ума;
Наглядно покажет он,
Из какой личинки возник
Неврастеничный кумир;
Мы знаем по школьным азам,
Кому причиняют зло,
Зло причиняет сам.
Уже изгой Фукидид
Знал все наборы слов
О демократии,
И все тиранов пути,
И прочий замшелый вздор,
Рассчитанный на мертвецов.
Он сумел рассказать,
Как знания гонят прочь,
Как входит в привычку боль,
И как смысл теряет закон.
И все предстоит опять!
В этот нейтральный воздух,
Где небоскребы всей
Своей высотой утверждают
Величье Простых Людей,
Радио тщетно вливает
Убогие оправдания.
Но можно ли долго жить
Мечтою о процветании,
Когда в окно сквозь стекло
Смотрит империализм
И международное зло?
Люди за стойкой стремятся
По заведенному жить:
Джаз должен вечно играть,
А лампы вечно светить.
На конференциях тщатся
Обставить мебелью доты,
Придать им сходство с жильем,
Чтобы мы, как бедные дети,
Боящиеся темноты,
Брели в проклятом лесу
И не знали, куда бредем.
Воинственная чепуха
Из уст Высоких Персон
В нашей крови жива,
Как первородный грех.
То, что как-то Нижинский
О Дягилеве сказал,
В общем верно для всех:
Каждое существо
Хочет не всех любить,
Скорее, наоборот, —
Чтобы все любили его.
Владельцы сезонных билетов,
Из консервативного мрака
Пробуждаясь к моральной жизни,
Клянутся себе поутру:
«Я буду верен жене,
И все пойдет по-иному».
Просыпаясь, вступают вояки
В навязанную игру.
Но кто поможет владыкам?
Кто заговорит за немого?
Кто скажет правду глухому?
Мне дарован язык,
Чтобы избавить от пут,
От романтической лжи
Мозг человека в толпе,
От лжи бессильных Властей,
Чьи здания небо скребут.
Нет никаких государств.
В одиночку не уцелеть.
Горе сравняло всех.
Выбор у нас один:
Любить или умереть.
В глупости и в ночи
Погряз беззащитный мир,
Мечутся азбукой Морзе,
Пляшут во тьме лучи —
Вершители и справедливцы
Шлют друг другу послания.
Я, как и все, порождение
Эроса и земли,
В отчаяньи всеотрицания, —
О если бы я сумел
Вспыхнуть огнем утверждения!
Совершенства он жаждал в конечном счете,
Но были стихи его простоваты.
Он тонко использовал глупость людей,
Все строил на армии и на флоте.
Он ржал — и хихикали депутаты,
Вопил — и смерть косила детей.