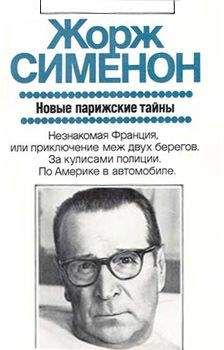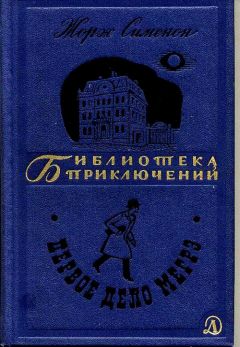В результате некоторым удается заработать шестьдесят, а то и семьдесят франков в день.
А потом меня провели на чердак и там, немного смущаясь, показали последнюю по счету мастерскую.
Это была настоящая ручная работа. Зачем? Да так, кокетство со стороны промышленников.
Их осталось еще человек двадцать, тех, кто прошел все стадии ремесленничества. Три года учеником, затем годы в подмастерьях в ожидании места мастера.
Тут не нужны никакие чудовищные машины, которые американцы продают нам, чтобы мы изготавливали французскую обувь. В руках мастеров обувь обретает форму, рождается и живет, сказали бы мы.
Но попробуйте объяснить этим людям, что с чудовищем надо бороться!
— Сколько они получают? — спросил я.
— В среднем до пятидесяти франков.
Вот так. Пятьдесят франков мастеру, который в свои сорок лет сознает, что ему надо еще учиться и учиться ремеслу.
И шестьдесят-семьдесят тому, кто может быть заменен любым чехом, китайцем или негром.
Да и много ли таких вот умельцев в мастерской ручной работы, которая со дня на день закроется!
Остальные станут теми же неграми. По крайней мере те, кто сумеет свыкнуться с такой долей.
Учиться шесть, восемь, десять лет, чтобы затем спасовать перед машиной, которой с завидной сноровкой управляют полудикари.
И при этом выпускают третьесортную продукцию, которая, тем не менее, стоит столько же, сколько настоящий товар!
Но это уже другая история.
XI. Кто сопротивляется, тот обрящет.
Вам, вероятно, известна эта эльзасская история, которую лучше бы рассказывать с тамошним акцентом. Однажды Иисус решил обойти всю землю и на перекрестке увидел плачущего человека.
— О чем ты плачешь? — спросил он.
— Мой дом сгорел, и родители погибли.
— Ступай, дитя мое, осуши свои слезы. Родители были уже стары. А дом ты построишь новый.
Затем Иисус повстречал другого плачущего человека и тоже спросил, о чем тот плачет.
— Я потерял свою жену, Господи.
— Разве мало вокруг других женщин?
Третий плачущий ответил на вопрос Иисуса:
— У меня умер ребенок.
— Но ты еще так молод, у тебя будут другие дети.
Пройдя немного дальше, Иисус увидел, как у межевого столба плачет седобородый старик.
— О чем ты плачешь? — спросил Иисус, начиная терять терпение.
— Я промышленник из Мюлуза.
Тогда Иисус, говорят, сел рядом, опустив голову, и не нашел слов утешения.
Я не Иисус Христос и не могу спокойно слышать, когда в самом пустынном из городов мне говорят:
— Вы знаете нашу промышленность: холсты, набивной и ненабивной хлопок, эльзасские перкали…
— Да, знаю…
— Минуточку. А еще мы делаем ткацкие станки, машины для обработки и набивки хлопка. В течение многих лет мы экспортировали ткани и хлопок во все страны мира. А теперь мы экспортируем машины для обработки тканей.
Понимаете? Сейчас, когда наши машины есть повсюду, их используют, чтобы нам же составить конкуренцию. Более того! За границу переманили иных наших инженеров, которые построили там заводы, производящие подобные машины. А выпуская эти машины…
Я вынужден просить пощады. Какое кошмарное видение все эти машины, их все больше и больше, они безостановочно производят все быстрее и быстрее!
Не пришла ли пора заговорить о стерилизации, евгенике[7], мальтузианстве[8] на уровне государства?
Не пришла ли пора евгеники для всех этих машин, стерилизации чудовищ, которыми мы так гордились?
Не знаю. Это слишком трудная для меня задача. Поговорим лучше о другом.
— Нас убивает другое. Нашей гордостью были ткани и набивной хлопок. У нас имелись уникальные в своем жанре художники…
Впрочем, где-то я уже это слышал. Может быть, так говорили о фарфоре? Или о лионских шелках?
— Сейчас в моде гладкие ткани с линейным орнаментом, которые не требуют никаких изысков. Наши художники умирают с голоду.
Я начинаю волноваться. Перед угрожающим нагромождением машин, перед этой грудой стали, которая готова завалить страну, я, потрясенный, раздавленный, не в силах произнести ни слова.
Но при чем здесь мода, я вас спрашиваю?
Разве парикмахер, если это нужно, не волен повелевать ею по своему усмотрению?
В свое время мужчины начали бриться сами. Значит ли это, что парикмахеры остались без работы? Нет, конечно! Они занялись женскими прическами. Разве не придумывают они каждый год какое-нибудь новое сооружение, призванное украшать головы наших подруг?
И разве модельеры не вынуждены обновлять одежду четыре раза в год? А фасоны шляп?
Я уже говорил, нас приучили есть апельсины и бананы, завтра нас заставят пить виноградный сок. Нам велят загорать на солнце, и самые здравомыслящие молодые люди, самые тучные и достойные дамы играют в чехарду на пляжном песке.
Моду тоже нужно формировать. И для этого необходимо умение, такт, желание и терпение.
Не значит ли это, что мы всерьез готовы сказать mea culpa[9]? Не настала ли пора признать, что со времен войны мы по-настоящему и не прилагали усилий, чтобы создать действительно французскую моду?
Наше преклонение перед заграничным зашло так далеко, что уже два года мы заставляем себя жевать chewing gum. А как называется одежда, которую мы носим: блейзеры, бриджи, пуловеры, шорты и — что там еще?
Пора все-таки признать, что мода, созданная в Нью-Йорке, Будапеште или Вене, не станет использовать наши лионские шелка и эльзасские набивные ситцы.
Там делают все модели на одно лицо: с простыми линиями, кубистскими украшениями, как можно проще. Там производят то, что способны произвести местные рабочие и что мы безропотно примем. Мы живем в ужасающем однообразии: однообразные стены, однообразные занавески, однообразные перины, более или менее грубое сырье, и все это нам нравится, потому что модно.
Вы полагаете, что скульпторы по дереву еще что-то создают? Вам ответят, что это современная линия, современная простота, влияние автомобилей и авиации.
Я в это не верю. Это происходит попросту оттого, что эта мода рождается в странах, где своих скульпторов нет.
Вспомним о платьях. Ссылаясь на модернизм, женщин закутали в куски ткани, едва доходящие им до колен.
— Это чтобы удобнее было садиться в машину… Это для метро…
Тем не менее женщины снова носят длинные платья, всякие побрякушки и перья на шляпах. Самолеты не помешают кринолинам[10]!
XVIII. Целое поколение молодежи требует одного работы
Хотите ли вы познакомиться с трагическим Парижем, для которого слово «кризис», повторенное слишком много раз, но двадцать-двадцать пять лет, говорили мне не без горечи:
— Вы, должно быть, заметили, как тут у нас все изменилось. Раньше турок из хорошей семьи мог быть только чиновником или офицером. Заниматься торговлей, промышленностью, финансами было просто неприлично. Тогда Константинополь был великолепным полем деятельности для всякого рода иностранцев. Пока мы читали стихи поэтов наших или иностранных на их родных языках, нашими делами вовсю занимались англичане, бельгийцы, французы. А теперь?
Да, все изменилось, и я видел это своими глазами. Мустафа[11] заставил турок заниматься конкретными делами, и среди людей нового поколения столько инженеров, мастеров, всевозможных техников, сколько и торговцев.
— Нами просто пожертвовали, — заключил мой друг.
А до войны они воспитывались, чтобы стать камергерами Высокой Порты[12], губернаторами в провинции, образованными и праздными чиновниками.
Сейчас им сорок, и менять что-либо поздно. Вы можете видеть, как они прогуливаются по главной улице Перы, изящные, внешне легкомысленные, с пустым портфелем и таким же пустым желудком.
Что они умеют? Говорят на четырех-пяти языках, знают хороших писателей, разбираются в музыке и живописи.
— Слишком поздно все менять. Нам остается продолжать так жить и дальше и смотреть, как рождается новое.
Вот о чем я думал, рассматривая толпы тех, кто желал получить возможность продавать пасту для чистки меди.
Не хочу и думать об этом. Невозможно, чтобы те, кто говорил о «возрождении человечества с помощью науки», о «величии и счастье, приобретаемых учением», о «наступающем знании» и, уж не знаю, о чем еще, — невозможно, говорю я, чтобы те, кто наполнил все эти школы и торжественно вручил дипломы и картонные корочки, оказались бы сейчас здесь, на этой самой голодной лестнице среди интеллектуалов, которым мой мелкий торговец предлагает продавать одежные щетки или электрические пылесосы.
Невозможно, чудовищно, если бы у них не было никакого плана: ведь даже сейчас они позволяют, чтобы десятки тысяч молодых людей отказывались от всего, работали денно и нощно и в конце концов получили те же самые дипломы.