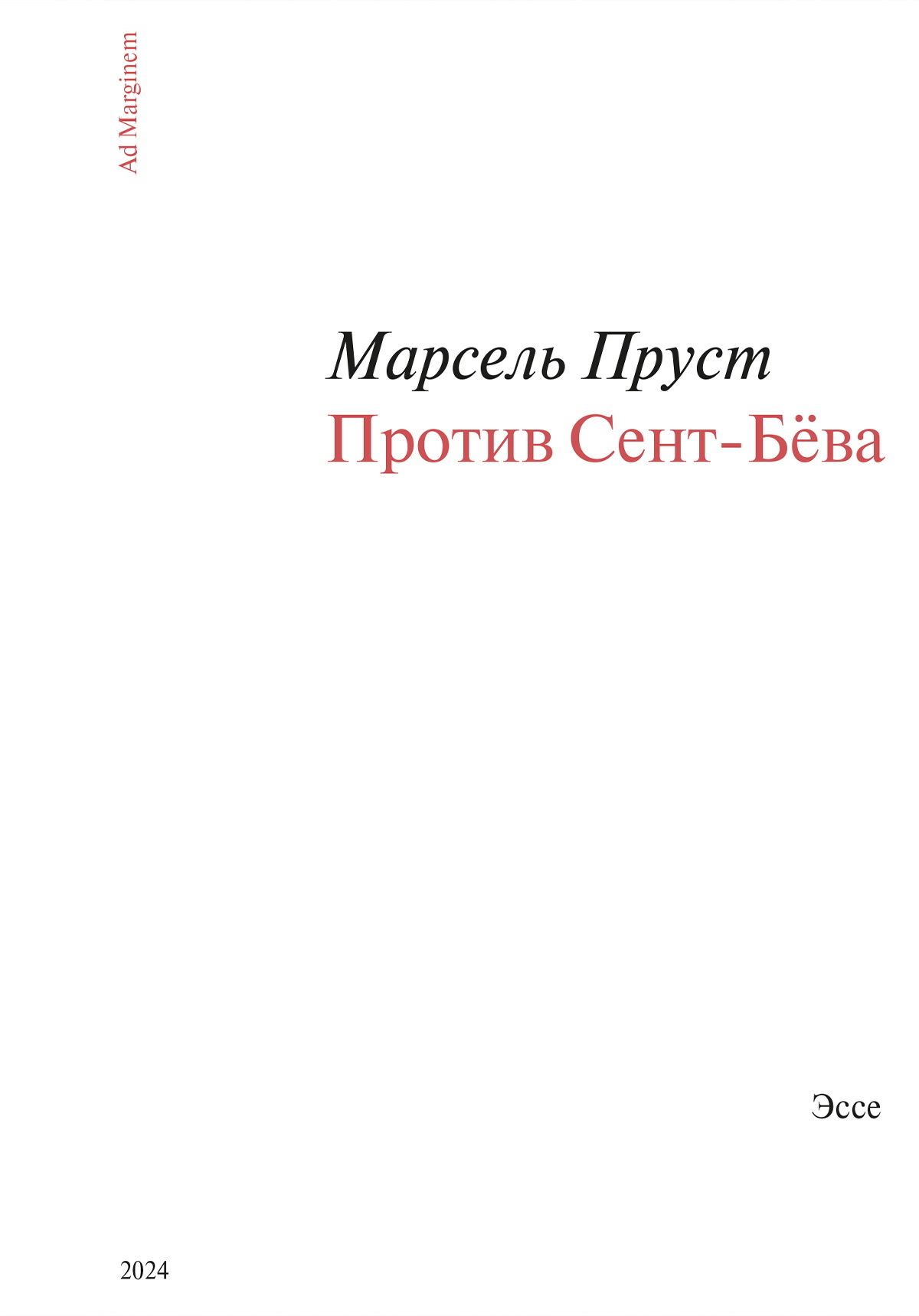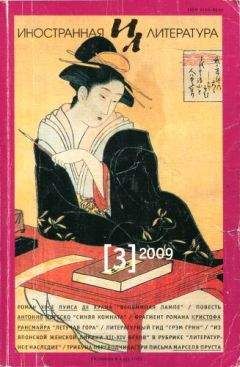бы ссылаться на его пример, нежели те, кому совершенство художественного исполнения дается без труда, поскольку они ничего не исполняют. Конечно, изображенное Жераром полотно на удивление безыскусно. В этом единственное достояние его гения. Всего лишь называя предмет, вызвавший столь субъективные ощущения, мы не раскрываем до конца то, что придает ему ценность в наших глазах. Если же, анализируя свое впечатление, мы пытаемся передать, что в нем заключено субъективного, образ и само изображение рассеиваются. И от отчаяния мы еще пуще питаем наши мечты тем, что называет их, но не объясняет, – железнодорожным расписанием, рассказами путешественников, именами торговцев и названиями улиц какой-нибудь деревни, заметками г-на Базена
[64], где названо каждое дерево, а не книгами излишне субъективного Пьера Лоти
[65]. Но Жерар отыскал способ обходиться лишь живописью и наделять изображение колоритом своей мечты. Возможно, ума в его повести чуть больше, чем следует…
Если мы испытываем чарующее беспокойство, когда г-н Баррес рассказывает нам о Шантийи, Компьене и Эрменонвиле, призывая нас «пристать к островам былого Валуа [66]», отправиться «в леса Шаалиса или Понтарме», то происходит так оттого, что имена эти памятны нам по «Сильвии», оттого, что они воздействуют на нас не воспоминаниями о реальных местах, а тем наслаждением свежести с примесью беспокойства, которое ощущал «этот дивный безумец» и которое превращало для него утренние часы, проведенные в лесах, или, скорее, «наполовину пригрезившиеся» воспоминания о них, в исполненное беспокойства очарование. Иль-де-Франс – край меры, сдержанного изящества и т. п. Ах, как это далеко от истины! Сколько в этом краю невыразимого, такого, что стоит над свежестью, над утром, над хорошей погодой и даже над воспоминанием о прошлом, такого, что заставляло Жерара бегать вприпрыжку, пританцовывать и напевать – пусть и не от здоровой радости – и заражает беспредельным беспокойством нас, стоит только подумать, что края эти существуют и мы можем отправиться на прогулку по местам, описанным в «Сильвии»! Что делает г-н Баррес, чтобы мы прониклись всем этим? Сообщает нам названия местностей, говорит с нами о вещах вполне традиционных, тяга к которым – признание удовольствия от соприкосновения с ними – вполне сегодняшняя, слегка легкомысленная, слегка «умеренно-изящная», слегка «иль-де-франсовская», если пользоваться словарем г-д Алле и Буланже [67] или выражениями типа: «неземная сладость колеблющихся свечей посреди бела дня на наших похоронах» и «колокола в октябрьской дымке». И лучшее тому подтверждение: несколькими страницами ниже можно прочесть такие же строки, но на этот раз принадлежащие перу г-на де Вогюэ [68] и посвященные Турени, ее пейзажам, «составленным сообразно нашему вкусу», ее «белокурой Луаре». Как это далеко от Жерара! Нам вспоминается его опьянение первыми зимними утрами, жажда путешествий, ослепление солнечными далями. Но наше наслаждение настояно на беспокойстве. Сдержанное изящество пейзажа – лишь почва для него, а само наслаждение – уход в запредельное. Это запредельное непостижимо. В один прекрасный день оно превратится у Жерара в безумие. А пока в нем нет ничего умеренного, подлинно французского. Гений Жерара вскормлен этими названиями, этими краями. Думаю, каждый человек с обостренным восприятием может поддаться такой же мечтательности, причиняющей нам как бы боль от укола, «ибо нет иглы острее, чем игла беспредельности». Любовный трепет передается нам не речами о любви, а называнием мелочей, способных воскресить в нас это чувство: ткань, из которой сшито платье любимой, ее имя. И вот это ничто, эти слова – Шаалис, Понтарме, острова Иль-де-Франса – превращают в пьянительный восторг мысль о том, что одним прекрасным зимним утром мы можем отправиться в эти края, края грезы, где гулял Жерар.
Вот почему все хвалы прославленным уголкам земли оставляют нас равнодушными. Как бы нам хотелось самим написать эти страницы «Сильвии»! Но, по словам Бодлера, нельзя одновременно владеть небом и быть богачом. Нельзя создать пейзаж, полный ума и вкуса, даже такой, как у Виктора Гюго, даже такой, как у Эредиа в «Виоле» [69], и в то же время напоить уголок земли особой атмосферой грезы, как это сделал Жерар в Валуа, поскольку создал-то он эту атмосферу из грезы. Можно без волнения воспоминать превосходный уголок Вилькье у Гюго, великолепную Луару у Эредиа. Но непременно вздрогнешь, наткнувшись в железнодорожном расписании на название Понтарме. Есть в Жераре нечто неизъяснимое, что передается другим, что хотелось бы, пусть в сыром виде, иметь и самому, но что является самобытной составной одних гениев и отсутствует у прочих сочинителей, представляя собой нечто большее, подобно тому, как влюбленность есть нечто большее, чем эстетическое, полное вкуса наслаждение. Оно таится в некоторых видах озарения, пришедшего во сне, например в том, что посетило Жерара перед дворцом Людовика XIII; и будь ты хоть умник из умников, как Леметр, приводить цитаты из Жерара в качестве образцов сдержанного изящества – значит заблуждаться. Это образец болезненной страсти. И наконец, вспоминать о том, что было безобидного, безмятежного, почти традиционного и старого как мир в безумии Жерара, называть его «дивным безумцем» – милое отсутствие вкуса со стороны Барреса.
Приезжал ли Жерар еще раз в Валуа, когда сочинял «Сильвию»? Безусловно. Страсть мыслит свой предмет реально существующим, влюбленный в мечту об уголке земли хочет видеть его наяву. Без этого какая же искренность? Жерар наивен, он пускается в путь. А вот Марсель Прево [70] говорит себе: останемся дома, ведь это мечта. Но в конечном счете остается лишь невыразимое, то, что, казалось, не удастся выразить в книге. Нечто неуловимое и неотвязное, как воспоминание. Это атмосфера. Голубовато-пурпурная атмосфера «Сильвии». Не ощутив это невыразимое, мы напрасно льстим себя надеждой, что наше творение будет стоить произведений тех, кто ощутил его: слова-то ведь те же. Только дело тут не в словах, невыразимое витает между строк, как утренняя дымка в Шантийи.
Сент-Бёв и Бодлер
Лишь наполовину любимый тобою [1] поэт, по отношению к которому, как принято считать, Сент-Бёв, связанный с ним узами тесной дружбы, проявил наибольшую проницательность и пророческое восхищение – это Бодлер. Но ведь тронутый преклонением, почтительностью, любезностью Бодлера, который посылал ему то стихи, то пряники [71], восторженно отзывался в письмах о его «Жозефе Делорме», «Утешении» и «Понедельниках» и выказывал ему дружеское расположение, Сент-Бёв так и не внял настоятельным просьбам Бодлера написать о нем хоть одну статью. Величайший поэт XIX века, к тому же друг Сент-Бёва, Бодлер так и не получил своего «понедельника», которые щедро раздавались графам Дарю [72], д’Альтон Ше и стольким другим. Если его имя и упоминается в статьях Сент-Бёва, то лишь мимоходом. Однажды, во время судебного процесса над Бодлером, тот умолял Сент-Бёва написать в его защиту письмо, но