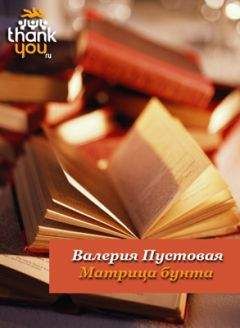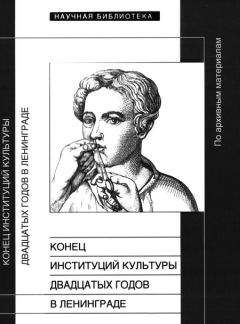А вот «ряженая революция» переживает обратное осмысление. Она сначало выглядит логичным воплощением неподлинности мира, способного только на повтор, отчего люди, надевшие в честь дня города костюмы бело- и красногвардейцев, обречены на дубль прежней гражданской бойни. Долгое время автор настаивает на том, что эта ложная, ничего не решающая стычка — просто глюк по «логике вторичного мира». Однако итог романа вместо нового витка дурной исторической спирали России дает нам почти быковское распрямление истории в неизвестность. Революция, хоть и ряженая, оказалась ответом на давнее духовное требование нации. «И все-таки это не походило ни на народный бунт, ни на военный путч. <…> Вирус Истории, давно, казалось бы, подавленный и усмиренный <…> распространялся в гражданских толпах. <…> Каждый, подхвативший болезнь, был уже не тем, кем казался, кем выглядел и кем себя считал. Каждый мог теперь стать совершенно другим человеком, с неожиданной судьбой, с неопределенностью во всяком завтрашнем дне. Никакими карантинами нельзя было теперь сдержать события, грозившие, без всякой логики и пользы, кроме логики и пользы самого исторического движения, тряхнуть цивилизацию. Эпидемия Истории распространялась по Москве — и люди искали своих, надеясь собраться вместе перед отправкой в будущее» (курсив здесь и далее мой. — В. П.). Это обещание очищения через историческое действие, этот театрализованный сдвиг толп, поколебавший декорацию, это — через абсурд симуляции — освобождение от глобальной повинности театру выглядит поздней поправкой автора. В контексте романа «ряженая революция» не могла быть ничем иным, как предельным выражением мирового исторического тупика и дурной российской цикличности. Но внезапно Славникова нащупывает за злободневными образами — какую-то новую актуальность, и логика сюжета нарушается, ожидаемое уступает место немыслимому. «Можем вернуться не в ту страну, из которой уходим», — замечает впервые отправившийся в рискованную экспедицию мастер Крылов, и его слова вполне созвучны финальному тревожно-радостному обещанию неизвестности в романе Быкова.
Повесть Алексея Лукьянова «Спаситель Петрограда» (СПб., «Амфора», 2006) основывается на тех же, что и романы Быкова и Славниковой, проблемах, но решает их на более простом, иллюстративном, словно аллегорическом уровне. Альтернативная история, в духе которой написана повесть Лукьянова, самим уже смешением исторических явлений, как то: Распутин и Кантария, Шевчук и Березовский, Курбский и Масяня, коммерческий комсомол и четырнадцать рангов службы, — создает впечатление остановки, консервации истории, словно все ее события и деятели никак не прейдут и копятся на одном временном пятачке. Тема неподлинности и театрализации жизни воплощена здесь в одном образе — образе Николая Второго, которого по очереди играют подставные монархи России. Царская семья была расстреляна большевиками, но Ленина все же арестовали, Столыпин остался жив, а русская Дума проголосовала за монархическое государство. С тех пор вот уже восемьдесят пять лет жандармерия подбирает повсюду двойников последнего русского царя, которых приходится менять очень быстро: ведь таинственная политическая сила все время покушается на них.
Как и в романе Славниковой, здесь суть фальсифицируется за счет внешнего сходства для того, чтобы умилять народ неживой типичностью, ожидаемой сочетаемостью роли и ее исполнителя, — чтобы не было заметно, что пустеющие места на самом деле давно уже не обновляются. Иными словами, вот вам подобие истории, о которой вы уже слышали, — чтобы не захотели настоящей, незнаемой.
Но, как и в романах Быкова и Славниковой, история вдруг затребовала свое: очередной двойник императора кузнец Юран вдруг соединяет похожесть с сутью — у него, уже завербованного жандармерией, обнаружен геном Романовых. То, что Юран при этом ни дать ни взять самый настоящий кентавр, подчеркивает абсурд его схожести с императором и настаивает на внимании к сути: четыре копыта не загримировать, и в то же время именно это чудо природы оказывается настоящим продолжателем царского рода! «Я тут совершенно законно?» — изумляется кентавр в царском мундире.
Отправной точкой сюжета повести стала осечка, благодаря которой выжил Столыпин. Но проблема выбора между революцией и восстановлением монархии не должна нас особо волновать. Ведь, спасибо писательскому такту Лукьянова, мессидж его повести связан с призывом вовсе не к монархизму, а к требованию исторической подлинности любого строя. По логике повести, Романовы, раз они есть, должны занять престол вместо двойников — страной должна править сила, реально включенная в историю.
Ноль-проект: «Маскавская Мекка» — «Аленка-партизанка» — “Американская дырка». В своем романе Быков озвучивает мысль о том, что дурная цикличность — выражение глубинной неподлинности исторического бытия России. Русский цикл — это призрачность, взаимоотмена исторических действий, оглядывающаяся логика развития, по которой вина за любые беды всегда перекладывается на силу противоположной части цикла: империалисты жалуются на вандализм революционеров, те же, придя к власти, искореняют памятники деспотизму, так что раж борьбы с чужими преступлениями заглушает стыд за свои собственные, и пока расчищают поле для деятельности, приходит срок в очередной раз сдавать смену. Произведения, воспроизводящие эту дурную закольцованность российской истории, в пределах нашей темы преобладают. Следовать за историей проще и в каком-то смысле честнее, чем нащупывать выход в неизведанное. Романы Андрея Волоса «Маскавская Мекка» (М., «Зебра Е», 2005), Павла Крусанова «Американская дырка» («Октябрь», 2005, № 8–9) и повесть Ксении Букши «Аленка-партизанка» (СПб., «Амфора», 2002) поражают иронией осознанной безысходности, уже не ищущей спасения — а бесконечно играющей в него.
“Не было никаких коварных замыслов. Вообще не было ничего ужасного. Все было обалденно смешно» (Букша). Именно так, «смешно», весело, лихо, разыгрывается в этих произведениях ироничная драма истории. Поразительно, как много в этих текстах увлекательных сюжетных придумок, внезапных ходов, богатых описаний, блестящих фантазий, эффектных тирад, умнейших людей — и как нудно, тяжело, убийственно одолевает все это неизбывная тупость, безвыходность и несдвижимость истории.
В романе Волоса «Маскавская Мекка» недаром доминирует раздражающий поначалу мотив случайности. Сама завязка, подкинувшая главному герою, бедняку Найденову, билет на рискованную лотерею богачей, размышления персонажей о своих судьбах в категориях везения, необъяснимые взлеты и падения, случайные смерти, грубые в своей нарочитости совпадения — все это помогает нам, с одной стороны, доверчивей воспринимать фантастические картины будущего в романе, а с другой — подготовиться к сокрушительному финалу. Ибо в эпилоге книги торжествует «непролазная скука осени» — скука случайного крушения назревавшей в богатом Маскаве революции (глупо погиб спонсор повстанцев), скука невезения маскавцев, которые глупо бежали от революции в соседние нищенствущие гумхозы, где и были повязаны как враги комму… то есть, конечно, «гумунистического» режима, скука догадки о гибели главных героев книги Найденовых, симпатичных влюбленных, мечтавших о ребенке и научной карьере главы семьи, — гибели, скучной на фоне всего перечисленного, потому что уже закономерной. Подобно тому как в рискованной кисмет-лотерее можно ни за что быть казненным или осыпанным банкнотами, так и в романной жизни политические силы и люди выходят на первый план и исчезают в небытии бессмысленно, напрасно, с единственным издевательским оправданием дурной логикой русской истории.
Роман Волоса неглубок, как приманивший и обмывший только до щиколоток водоем. По сути, роман рождается из одноактного сотворения двух извечных миров мечты России: зажравшегося, кичливого города, европеизированного на восточный лад, и голодного, но идейно подкованного, не сдающего позиций общинного хозяйства. Главная цель его поэтому — подробное описание роскошеств Маскава (омусульманенной Москвы), из которых запоминаются, конечно, искусственное небо Рабад-центра и самораздевающийся манекен, и однообразия грязной, заброшенной размытости Гумкрая. Взирать на плоды додуманных до стадии вырождения капитализма (права на детей надо покупать) и коммунизма (на праздник родной завод дарит нищему юбиляру бессмысленно огромную пуговицу) автор заставляет нас при помощи двух простых сюжетных уловок: мы следим за судьбой богатства и любви — за лотереей Найденова и романом секретаря гумрайкома Твердуниной со старшим коллегой по «рати» (партии).