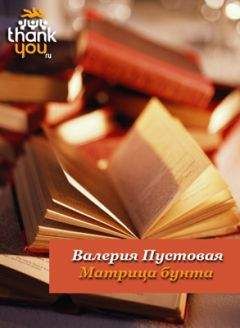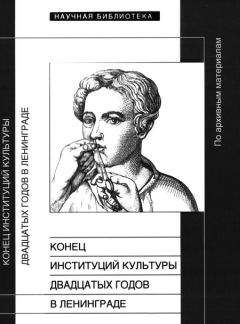Роман Доренко неудивительно пустой и скучный. Неудивительно — потому, что эти свойства, как и другие недостатки его текста, всегда сопутствуют карьеризму в искусстве, будь то искусство литератора или журналиста. Понахватанные отовсюду и огульно упрощенные идеи о религии, истории культуры и основах человеческого бытия, наивная аллитерация и ученическая игра слов вроде «блюдолизам и лизоблюдам», демонстративный цинизм знатока, вхожего в круги хоть кончиком носа, бессмысленные дешевые эффекты вроде расписанного на каждый день в романе восточного гороскопа, — все это придает повествователю вид напыщенного барина, проигравшего в карты последний камзол. Но эта по-своему смешная и откровенно наглая книга заканчивается вдруг такой огромной, всерьез прочувствованной болью за перешедшую в археологическое небытие Россию, что пробуждает настоящее страдание за отечество и неожиданное уважение к автору.
Финал романа за четыре дня бухает в бессмыслицу всю страну. Кошмарная дыра этой итоговой бессмыслицы больше, провальней, нулей, чем дурь исторического циклизма в финалах проектов-“ноль». Замороченный манией бессмертия, как политического, так и физического, доренковский Путин отправляется на консультацию к главному даосу Китая, оставляя страну уже не только позабытой, но и фактически покинутой. В его отсутствие банда террористов захватывает атомную электростанцию недалеко от столицы и теперь ждет нужного ветра, чтобы накрыть Москву радиоактивным облаком. Страна погружается в бездвижность сонного обреченного ожидания, на фоне которого революция лимоновцев, свершившаяся в ситуации бессмысленности всякой власти, выглядит способом забыть о тиканье готовящейся катастрофы. «Весь цвет России, богоравные военачальники и государственные деятели» дезертируют в бункер, где создают очередной Комитет спасения России, молятся ветрам и утешаются обычными аппаратными перестановками. Мифическая сила державы сокрушена: потерянный в бегах ядерный чемоданчик разочаровывает своего нового владельца, коллекционера оружия, потому что «красной кнопки никакой в чемодане нет <…> Он и сейчас готов давить на кнопки на спор, хоть на щелбан». Тупик, безвольная одурь народа метафорически показана в застрявших на пути из города москвичах: «Все ехали во всех направлениях. По большей же части — стояли повернутыми во всех направлениях векторами нереализованных устремлений». Развал России: «Уже семь регионов страны объявили о государственном суверенитете». А главная ее надежда и повод всего происшедшего, главный герой романа — Путин — доводит логику недеяния, последования, самоспасения до бездарного конца — государственной измены. «Джордж выручит», — Путин звонит Бушу посоветоваться и дает себя уговорить на вторжение американских морпехов на территорию и главные оборонные пункты страны. Комитет спасения России смещает президента и навечно запирает его в нижнем помещении бункера.
«Исчезает матушка-Россия, исчезает прямо на глазах», — вторит 2008 году день сегодняшний в романе Ключаревой. В отличие от книги Доренко, «Россия: общий вагон» — динамичный, вольный, крутой, с глубокой иронией и болью написанный текст. Это именно роман, сомневаться не приходится, маленький роман-концентрат, в котором герои, события и места действий — это компактные сгустки метафор.
Заглавный образ страны-вагона не сулит ничего прельстительного. И в самом деле, основное пространство романа разворачивается по принципу трагедийного искажения. Текст долгое время движется по цепочке: один персонаж завязывает на себе историю другого, и так они, длинной вереницей, идут в обрыв. Женщина из заброшенного шахтерского поселка тянет за собой машиниста, отсидевшего за убийство чиновника, а за ним маячат замерзшая в доме без отопления дочка и покончившая с собой жена. За истерической бунтовщицей Ясей на свет повествования выходят сумасшедший комсомолец Тремор, как «раненый и поседевший в боях призрак юного барабанщика из старых советских сказок», и гомосексуалист Гриша, которого пытается завербовать ФСБ для слежки за властительными любовниками. Ни одна история не кончается хорошо, люди мучают и предают друг друга, словно в этом отрицательном пространстве искаженной России никто не совпадает, ничего не сходится, не идет на лад.
Основная линия сюжета взаимомучительства, несовпадения людей — история любви главного героя Никиты и девушки Яси. Тема любви в романе связана с образом России, и бегство от любви означает здесь бегство от России, судьбу которой не решаешься прожить. Надрывный отказ Яси от Никиты недаром оказывается связан с отказом от мечты о России: «Нет никакой твоей России! <…> Не хочу об этом думать! <…> Я не хочу никого спасать! <…> Я хочу быть счастливой!». Яся, глубоко родственная в своей удивленной открытости миру возлюбленному Никите, страшится принять это родство, потому что за ним — миссия. Миссия веры и поиска истины о себе и о своей стране, с которой твое «я» нераздельно. Пафос текста Ключаревой попадает в тон пушкинским строкам, которые Никита продекламирует на московских баррикадах: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна…». В этих словах поэта роман акцентирует далеко не сразу явную связь между «пленительным счастьем» и тем, что «Россия вспрянет». Яся, желающая стать счастливой вне поиска-пробуждения России, на деле понимает неосуществимость своего желания. Счастье возможно только в неискаженной, подлинной, воспрянувшей России — недаром свою подлинную, не искаженную тоской порока и подзаводной яркостью Ясю Никита обретет одновременно с подлинной, совпавшей с собой Россией.
Патриотизм — это то же, что и в межличностных отношениях, бремя доверия и любви. Ноша незримой связанности, когда не надо усилий, чтобы почувствовать вроде бы чужую, отдельную от тебя боль своей. «Много добрых людей на свете! — А государство?..» — две реплики в романе, отражающие главную дилемму гражданского чувства в России. Очень все-таки хочется, чтобы было государство — действенное, работающее государство сверхскоростной взаимопомощи. Но пока только разрозненные странники добра прислушиваются к жалобам огромных российских пространств. В романе Ключаревой сильна вера в возможность личного преодоления общественной боли. Недаром Никита сумел, не обращаясь к государственным инстанциям, найти приют для случайной знакомой, старухи-беженки, — в селе Горинском.
Горинское — утопия не пропавшей еще, ждущей своего часа России, убежище блаженных, выживающих силой изгнанной из больших городов человечности. В Горинском Никита однажды наконец «поймал счастье» — ощутил совпадение мечты с реальностью, вдохнул атмосферу очистившейся от искажений отчизны. Горинское, где в колхозе председательствует веселый священник, разруливает интриги с кормами бывший гомосексуалист Гриша и пишет роман об экологическом спасении не по годам вдумчивый мальчик, приветствует нас неугасимым сиянием истины о России.
Но свет Горинского — призрачный свет утопии, реализуемой в малом обществе избранных, возжаждавших подлинности бытия. Последние главы романа выталкивают нас из убежища блаженных — обратно, в Россию гибнущую, в необходимость не верить, а действовать, не бежать, а нападать. Опять застучал перечислительный ритм трагедий, завязалась вереница несчастий, не хватало только общего горя — и вот оно: монетизация льгот.
Ключарева выбирает недавнюю пенсионную реформу как повод растолкать российское общество, вынудить народ и власть к очной ставке. «Вот и революция, которую мы так ждали». Чудо Горинского не отменяет назревшего несовпадения верхов и низов. Низы захотели и смогли. Кульминационная в романе сцена пощечины Никиты президенту запомнилась большинству читателей и стала своеобразно знаменитой. Вот только не дает покоя вопрос, правильно ли мы поняли место этого эпизода и всего революционного сюжета в романе, не зря ли нас вернули в жесть действительности из блаженного забытья Горинского?
Никита что — Никита остается верен себе, верен горинской идее личного подвижничества, его пощечина сродни белым гвоздикам, которые он, в полном одиночестве мужества между двух застывших в замешательстве толп, засовывал в нацеленные стволы омоновцев, умоляя не стрелять в своих, в пришедший за справедливостью народ. Другое дело — Россия, с началом революции все больше ощущающая несовпадение ожиданий и результатов, слов и действий. Какой-то греческий шут выражает «солидарность с героическим советским народом»; группы революционной молодежи стоят раздельно, «неприязненно глядя на особей из соседних табунов» и превращая в фарс порыв нации к повстанческому единству; мужики рады, что благодаря волнениям с утра можно выпить и не пойти на работу; а некий вольнодумствующий малец разочарованно разводит руками: «Да, блин, какая-то революция непонятная. Что происходит? Куда идти? Что делать? <…> Тусуйся, прыгай, бегай — а оно все как-то само происходит, помимо тебя. Мы революцию совсем не так представляли. Думали, от нас будет многое зависеть». Перед нами не что иное, как черты «ряженой революции» по Славниковой, а шире — воспроизведение дурного кольцевого сюжета России, революционный тупик, открывшаяся ложь преобразовательных возможностей повстанцев. Итогом революции в романе становится безумная аллегория, явившаяся в дни голодовки ускользающему в небытие обморока Никите: явление «непрощенных и непростивших», колоритной, точно схваченной Ключаревой нежити, которая пришла требовать своего и бесконечно мстить. Потому что революция, по логике цикла, и есть только мщение, ритуал отрицания всего, что было, компенсация обиженным, которым лишь бы теперь напастись, а там хоть трава не расти. «Мира не будет», — авторитетно заявляет голова Масхадова на серебряном блюде. Потому что колесо вертится, и раздобревших быков скоро загонят в стойла новые мастера политической корриды, и так до следующего бешенства в стаде. Потому что пора очеловечиться, развернуть ситуацию в другую сторону, соскочить с колеса взаимных обвинений и понять самих себя. «— Не так! Не так! Не так! — Оглушенный, Никита двигал губами в такт замиравшему сердцу, глотая слезы», и вдруг «угадал то самое, нужное, слово: “Прости!”»