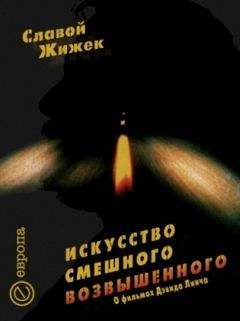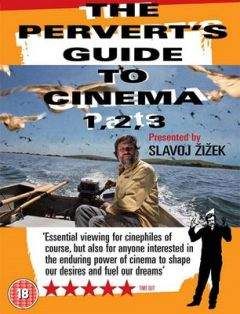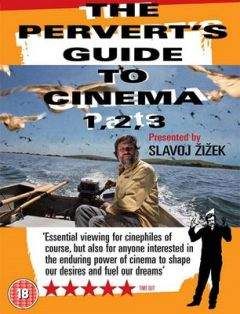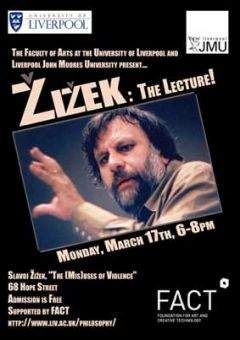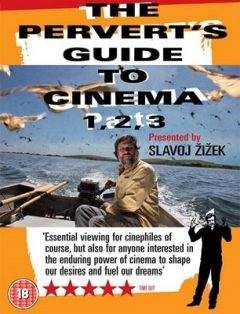Ознакомительная версия.
Глава 5
КОНСЕРВИРОВАННАЯ НЕНАВИСТЬ
Иной способ преодолеть непонимание прочтения «Шоссе в никуда» в духе новых религиозных движений — рассмотреть появление множественных личностей (Фред и Пит, Рене и Элис) на фоне противостоящей им ограниченности «психологического единства» индивида: проще говоря, появление множественных личностей показывает, что представлять субъект как психологическое единство неверно. Здесь мы сталкиваемся с проблемой «психологически убедительного» статуса истории как формы сопротивления ее подрывной сущности: когда жалуются, что герои не являются «психологически убедительными», следует обратить внимание на ответственную за это идеологическую цензуру.[62] В этом смысле судьба оперы Моцарта «Так поступают все женщины» с ее «нелепым» (для психологической впечатлительности XIX века) сюжетом о двух молодых джентльменах, подвергающих своих невест изящно придуманному испытанию, парадигматична: главные герои инсценируют отъезд на военные маневры, а затем, переодевшись в албанских офицеров, возвращаются, чтобы соблазнить своих невест — каждый невесту другого. Две черты сюжета этой оперы неприемлемы для романтического восприятия: девушки были так ошеломлены, что ни одна из них не узнала в иностранце, горячо соблазнявшем ее, лучшего друга своего жениха; и подлинная любовь была вызвана в обеих девушках чисто механическим способом в течение небольшого промежутка времени. Для того чтобы спасти божественную музыку Моцарта от влияния столь вульгарного сценария (согласно клише, установленному Бетховеном), придумывается ряд стратегий: от создания абсолютно нового либретто к той же музыке до изменения содержания нарратива (например, в конце оказывается, что невезучие девушки все это время знали об абсурдном обмане и просто притворялись обманутыми, чтобы как можно больше смутить своих женихов в момент финального разоблачения). Одним из таких нововведений, наблюдаемых и в ряде недавних постановок, является воссоединение двух пар при изменении их состава — с помощью такого изменения спасают психологию, т. е. обман психологически оправдывается тем фактом, что две пары не подходят друг другу изначально: подсознательно они уже были влюблены «диагонально», и смехотворный маскарад таким образом позволяет проявиться истинным любовным связям. Странный фантом автоматического, «механического» воспроизводства наших глубочайших чувств оказывается успешно защищенным.
Доказательством от противного ограниченности «психологического» подхода является полный провал направленной против Ку-клукс-клана мелодрамы Коста-Гавраса «Измена», истории о секретном агенте ФБР (Дебра Уингер), которая влюбляется в фермера из штата Библейского пояса (Том Беренджер), подозреваемого в участии в секретной расистской организации, ответственной за гибель ряда афроамериканских и белых либералов. Коста-Гаврас выбрал путь, противоположный выбранному Джоном Далем в «Последнем соблазнении» (где femme fatale абсолютно «по-дьявольски зла», т. е. открыто творит зло и абсолютно этим наслаждается); он отчаянно пытается «избежать клише» посредством отказа изображать группу Ку-клукс-клана как брутальных красношеих головорезов. Вместо этого Коста-Гаврас показывает их милыми людьми, способными в частной жизни на истинную любовь и сочувствие, и проявляющими подлинную групповую солидарность (что показано в сцене вокруг бивачного костра); ничего удивительного, что между героями Уингер и Беренджером возникает истинная любовь, к концу фильма она действительно страдает, когда оказывается вынуждена застрелить его. Это действие специально представлено как предательство: режиссер рассчитывает на нее, предполагая, что героиня Уингер из-за своей любви не сможет выстрелить. Это отражение «плоского, вульгарного клише» отнюдь не объясняет расистское поведение членов Ку-клукс-клана как соответствующее «психологически завершенному образу»; тем не менее это отражение оказывается ничем не лучше, чем непосредственный карикатурный образ безмолвных красношеих громил. Непонятно как, но члены Ку-клукс-клана могут, с одной стороны, быть достаточно милыми и радушными людьми, а с другой — любить время от времени бесконечно жестоко линчевать негров.
Еще более провальна попытка Спилберга представить в «Списке Шиндлера» зло нацизма. В некоторых артхаусных фильмах, снятых великими европейскими режиссерами, есть сцены, ультимативно претенциозные, например, в «Забриски Пойнт» Антониони это дюжина совокупляющихся в горячей красно-желтой пыли Долины смерти пар. Такие сцены являются идеологией в худшем ее проявлении. И хотя многие критики восхваляли описываемую ниже сцену как лучшую в «Списке Шиндлера», коммерческому кино скорее свойственно противостояние такой претенциозности. Сцена объединяет все, что лживо в Спилберге: великолепный, вознагражденный Оскаром монолог Ральфа Файнса, когда командир концентрационного лагеря сталкивается с красивой еврейской девушкой, своей пленницей. Мы слушаем длинный квазитеатральный монолог, пока красивая девушка молча смотрит перед собой, полностью окаменев от смертельного страха. Героя раздирает страсть: с одной стороны, девушка привлекает его сексуально, с другой — он находит ее неприемлемой в качестве объекта любви из-за ее еврейских корней — чистая иллюстрация лакановской формулы S-а, противостояния разделенного субъекта объекту-причине его желания. Сцена, как правило, описывается как битва между обычной эротической человечностью и расистскими предубеждениями; в конце концов расистская ненависть побеждает, и он избавляется от девушки. Что же лживо в этой сцене? Напряженность сцены будто бы заключается в радикальной несоизмеримости двух субъективных точек зрения: что для него легкий флирт с идеей короткой сексуальной связи, для нее — вопрос жизни и смерти. Именно девушка воспринимается нами как воплощение ужасного человеческого существования, в то время как мужчина даже не обращается к ней прямо, но скорее обходится с ней, как с предметом, предлогом для громкого монолога. Ложно в этой сцене и то, что она представляет (психологически) невозможную позицию формулировки своего содержания, т. е. демонстрирует расколотое отношение немца к напуганной еврейской девушке как непосредственный психологический опыт. Единственным способом сгладить этот раскол была бы постановка сцены (конфронтации с еврейской девушкой) в стиле Брехта с актером, играющим нацистского негодяя, непосредственно обращающимся к публике: «Я, командир концентрационного лагеря, нахожу эту девушку сексуально очень привлекательной; я могу делать с моими заключенными все, что я хочу; итак, я могу изнасиловать ее безнаказанно. Однако я носитель расистской идеологии, которая говорит мне, что евреи слишком грязные и низкие, чтобы уделять им внимание. Я не знаю, какое решение принять…».
В «Списке Шиндлера» мы имеем дело с ошибкой, похожей на те, которые совершают ищущие ключ к объяснению ужасов нацизма в «психологических портретах» Гитлера и других нацистских главарей (или те, кто анализируют патологию развития личности Сталина, чтобы найти ключ к пониманию сталинского террора). В данном случае Ханна Арендт права в утверждении проблематичного тезиса о «банальности зла»; если мы рассмотрим Адольфа Эйхмана как психологический объект, личность, мы не обнаружим ничего: он был просто-напросто бюрократом, т. е. его «психологический портрет» не объясняет тот ужас, который он порождал. Следуя этой логике, абсолютно ложный путь — исследовать физические травмы и колебания капитана лагеря так, как это делает Спилберг. Здесь мы встречаемся с проблемой связи между социальной и индивидуальной патологиями в ее полном проявлении.
В первую очередь нам следует провести черту между двумя уровнями. Сталинская система действительно работала как машина извращений, но из этого факта неверно заключать, что отдельные сталинисты были в массе своей извращенцами; это утверждение — лишь общее обозначение того, как был структурирован сталинизм в качестве политико-идеологической системы. И оно ничего нам не говорит о душевном складе отдельных сталинистов — они могли быть извращенцами, истериками, параноиками, невротиками и т. д. Однако вполне законно так можно охарактеризовать социально-либидозную экономику идеолого-политической доктрины сталинизма (что не дает права изображать отдельных сталинистов как извращенцев), в то же самое время следует избегать противоположной крайности, заключающейся в постулировании существования на уровне социума некоего автономно в трактовке Эмиля Дюркгейма существующего «объективного Духа», который независим от действий индивидов, но в свою очередь полностью ими руководит. Предельная реальность — это не пропасть между субъективными патологиями и патологиями «объективными», вписанными в политико-идеологическую систему как таковую: прямое утверждение этой пропасти не объясняет, почему «объективная» система, независимая от субъективных душевных колебаний, воспринимается субъектами как данность. Всегда следует помнить, что разница между «субъективными» патологиями и либидозной экономикой, свойственной «объективной» идеологической системе, в конечном счете является чем-то врожденным субъекту(-там): эта социально-символическая система «объективна» настолько, насколько субъекты относятся к ней как к объективной.
Ознакомительная версия.