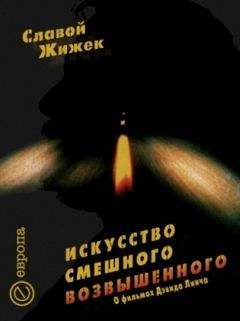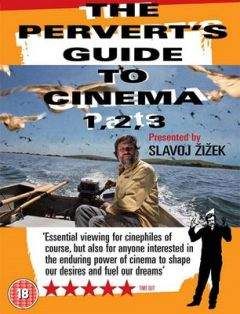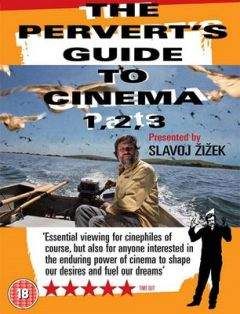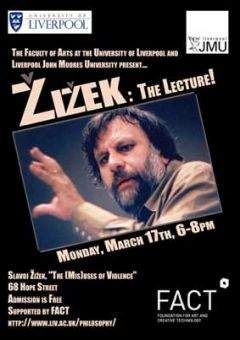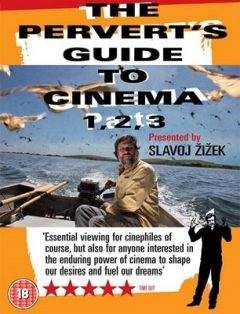Ознакомительная версия.
К данной загадке относится лакановское понятие «большого Другого»: «большой Другой» — это измерение непсихологических, социальных, символических отношений, воспринимаемых субъектом как данность, или, если говорить короче, измерение символических институтов. Например, когда субъект встречает судью, он знает, как различить субъективные черты судьи как человека и «объективную» институциональную власть, которой этот человек наделен до тех пор, пока является судьей. Эту пропасть можно рассмотреть, когда я говорю что-то как частное лицо и когда я говорю что-то как некто, наделенный властью Институтом, как если бы через меня говорил сам Институт. В этом отношении Лакан не является последователем Дюркгейма: он выступает против любого обезличивания института, поскольку хорошо понимает, что Институт лишь оказывает перформативный эффект на действия субъекта, Институт существует только тогда, когда субъекты верят в него, или скорее действует (в их социальном взаимодействии), как будто они в него верят. Следовательно, мы можем иметь глобальную извращенную политико-идеологическую систему и индивидов, которые в той мере, в какой они причастны этой системе, демонстрируют истерические, параноидальные и другие черты.
Развивая данное суждение, можно ясно увидеть, почему тезис о безразличии нацистских деятелей (которым и двигала не патологическая ненависть, но хладнокровная, безразличная, бюрократическая результативность), содержащийся в понятии «банальность зла» Арендт, неполон: страстная ненависть, которая психологически больше не переживается субъектом, переходит в (или материализуется/воплощается в) «объективный» идеологический аппарат, который «ненавидит» за субъекта. Представление об «объективации» человеческого опыта, снимающей с субъекта ответственность за необходимость переживать и принимать либидозную форму идеологии, которой придерживается субъект, необходимо для понимания того, как работает «тоталитарная» система — мы имеем здесь дело с феноменом, который по аналогии с консервированным смехом, было бы соблазнительно назвать консервированной ненавистью. Нацистский деятель, поступающий как холодный бюрократ, безразличный к тяжелому положению своих жертв, не отличается от субъекта, охраняющего усталое безразличие к комедии, которую смотрит, пока сам телевизор при помощи звука, не подскажет ему, где следует смеяться (или в марксистском прочтении товарного фетишизма — буржуа, который может себе позволить в личном опыте быть рациональным утилитаристом; фетишизм в настоящем случае переносится на сам товар).[63] Ключ к лакановскому решению проблемы связи между субъективным либидозным опытом и либидозной экономикой воплощен в объективном символическом порядке, большом Другом; разрыв между тем и другим оригинален и конструктивен: нет первоначального непосредственного личного опыта, который затем не материализовался или не объективировался бы в работе символического порядка. Субъект сам появляется путем замещения глубочайшего личного опыта материализованным символическим порядком. Это одно из возможных прочтений лакановского положения о субъекте, «перечеркнутом субъекте»: субъекта опустошает то, что он отчужден от своего фантазмического ядра, которое переносится в «материализованного» большого Другого. По этой причине нет и субъекта без минимально «материализованного» символического института.
Гораздо достовернее ужас Холокоста передает другая сцена из «Списка Шиндлера», та самая, в которой еврейские дети пытаются спрятаться (в чуланах, даже в уборных) от нацистских головорезов, уже обыскивающих дома в гетто. Сцена снята в беззаботной манере под легкую оркестровую музыку, характерную для сцен из фильмов Уильяма Уайлера об идеалистической жизни маленьких американских городков. Таким образом, контраст между видимостью детской игры в прятки и надвигающимся кошмаром создает невыносимое напряжение сцены. В этом направлении следует искать ответ на вопрос: как показывать Холокост в кинематографе? «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи предлагает уникальное решение: когда итальянца-еврея арестовывают и отправляют вместе с его сыном в Аушвиц, тот для защиты ребенка от психологической травмы избирает отчаянную стратегию — представить все происходящее как соревнование по строгому следованию установленным правилам (например, есть как можно меньше), — те же, кто заработают больше всего очков, в конце увидят прибытие американского танка. (Поэтому отец и переводит на итальянский приказы, выкрикиваемые грубыми немецкими охранниками, как инструкции для игры). Чудо этого фильма состоит в том, что отцу удается поддерживать видимость игры до конца: даже когда немецкий солдат ведет его на расстрел (перед самым освобождением лагеря союзными войсками), папа подмигивает сыну, спрятавшемуся в чулане неподалеку, начинает комически преувеличенно шагать «гусиным шагом», как если бы играл вместе с солдатом.
Возможно, ключевая сцена фильма — это момент, когда мальчик устает от игры, связанной со столь многими лишениями (нехватка еды, необходимость часами прятаться) и жалуется отцу, что хочет уехать домой. Отец невозмутимо соглашается, но затем с притворным безразличием упоминает о том, как рады будут их соперники, узнав, что они, одни из лидеров, с большим перевесом в очках над остальными, покидают соревнование, — в общем, отец ловко представляет желания других, и когда, у самой двери, отец говорит сыну: «Хорошо, идем. Я не буду ждать тебя целый день!», тот меняет решение и просит отца остаться. Разумеется, напряженность ситуации создается тем, что мы, зрители, прекрасно понимаем, что предложение отца отправиться домой — неосуществимая возможность, чистое притворство: если бы они действительно вышли за дверь, то сына, прятавшегося в бараках, немедленно препроводили бы в газовую камеру. В этом действии обнаруживается основная функция отца-защитника: предоставив (неосуществимую) возможность и описав желания соперников, сделать так, чтобы субъект-сын свободно выбрал неизбежное, но через соперничество с воскрешенными в памяти желаниями других.
Далекий от вульгарности, этот фильм в своем самом комическом аспекте намного более подходит для темы Холокоста, чем псевдосерьезные попытки a-la «Список Шиндлера», поскольку проясняет, что так называемое человеческое достоинство опирается на острую необходимость поддерживать минимум защитной видимости: разве не все отцы делают для нас нечто похожее, только в менее драматических обстоятельствах? Также не следует забывать, что отец-защитник Бениньи успешно реализует работу по символической кастрации: он отделяет сына от матери, ставя его перед диалектической идентификацией с желаниями других (равных с ним самим) и таким образом приучает сына к жестокой реальности жизни вне семьи. Фантазмический щит — лишь добрая выдумка, позволяющая сыну примериться с грубой реальностью. Отец НЕ защищает сына от жестокой действительности концлагеря, но создает символическую фикцию, которая делает эту реальность выносимой. Не в этом ли состоит основная функция отца? Если мы «становимся взрослыми» в тот момент, когда нам больше не нужна видимость защиты, тогда мы НИКОГДА не становимся «взрослыми» на самом деле, поскольку просто перемещаем панцирь защитной видимости на другой, более абстрактный уровень. В наше время, одержимое разоблачениями ложных видимостей (от традиционной левацкой критики идеологического лицемерия буржуазной морали и власти до американского телевидения, где люди в ток-шоу публично раскрывают свои глубочайшие секреты и фантазии) трогательно видеть подобную демонстрацию целебной силы видимости. Единственным проблемным моментом здесь оказывается аллегорическое родство между нарративом фильма и способом, каким сам фильм относится к зрителю: не поступает ли Бениньи, режиссер фильма, по отношению к зрителям точно так же, как отец из фильма Бениньи к своему сыну, ради которого он и создал панцирь вымысла для смягчения травмирующей реальности концентрационного лагеря? Иными словами, не ставит ли Бениньи зрителей в положение детей, которых нужно защитить от ужаса Холокоста с помощью «сумасбродной» сентиментальной и забавной выдумки об отце, спасающего своего сына, — вымысла, сделавшего историческую реальность Холокоста в какой-то степени более терпимой?
По сути, фильм Бениньи следует противопоставить другому недавно вышедшему фильму, представляющему фигуру отца в виде монструозного растлителя своих детей. Речь идет о «Торжестве» Томаса Винтерберга (Дания, 1998). В этом фильме одержимый порнографическими желаниями отец, далек от того, чтобы защитить детей от травмы, поскольку сам является причиной этой травмы. В одном случае отец принимает на себя почти материнскую роль защитника. Опираясь на чистую видимость, он сплетает защитную паутинку вымысла для своего сына, этакую разновидность ersatz-placebo.[64]
Ознакомительная версия.