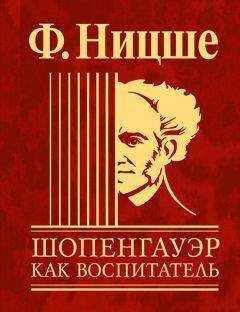Не следует недооценивать те почти благожелательные nuances, которые, например, греческая знать вкладывает во все слова, отделяющие ее от простонародья; как эти слова постоянно смешиваются и подслащиваются сожалением, тактичностью и снисходительностью, пока, наконец, почти все слова, подходящие обычному человеку, не превращаются в выражения, означающие «несчастный», «достойный жалости», – и как, с другой стороны, «плохой», «низкий», «несчастный» никогда не переставали звучать для греческого уха в одной тональности, в которой преобладал оттенок «несчастного»: таково наследство древнего, более благородного, аристократического способа оценки, который не изменяет самому себе даже в презрении. «Высокородные» чувствовали себя «счастливыми»; им не приходилось искусственно конструировать свое счастье наблюдением за собственными врагами или самовнушением и самообманом (как это привыкли делать все люди ressentiment); они, как люди цельные, полные силы и в силу этого неизбежно активные, знали, что счастье не следует отделять от деятельности – деятельность для них была необходимой частью счастья – все это решительно противоречит «счастью» на уровне бессильных, угнетенных и тех, в ком гноятся ядовитые и враждебные чувства.
Тогда как благородный человек живет в доверии и открытости по отношению к себе, человек ressentiment лишен всякой откровенности, наивности, честности и прямоты к самому себе. Его душа косит; его дух любит укрытия, тайные пути и задние двери; все скрытое привлекает его как его мир, его безопасность, его свежесть; он умеет молчать, забывать, выжидать, самоуничижаться и смиряться. Раса таких людей ressentiment в конце концов станет умнее любой знатной расы; она будет почитать ум гораздо больше: ведь он станет главнейшим условием существования, тогда как у благородных людей ум легко приобретает тонкий привкус роскоши и изысканности – здесь он важен меньше, чем идеальное функционирование регулирующих бессознательных инстинктов или даже известное безрассудство перед лицом опасности ли, врага ли, импульсивности ли в гневе, любви, почитании, благодарности и мести, по которым во все времена благородные души узнавали друг друга. Сам ressentiment, если он проявляется в благородном человеке, осуществляется и истощается в мгновенной реакции, и оттого он не отравляет; с другой стороны, его и вовсе не бывает там, где он неизбежно проявляется у всех слабых и бессильных. Неумение долгое время всерьез относиться к своим врагам, к своим неприятностям и даже к своим злодеяниям – таков признак сильных, полных натур, в которых наблюдается избыток пластической, формирующей, восстанавливающей и стимулирующей забывчивость силы. Такой человек одним движением стряхивает с себя множество червей, которые вгрызаются в других; только здесь и возможна (если она вообще возможна) настоящая «любовь к врагам своим». Сколько почтения к своим врагам несет в себе благородный человек! – а такое уважение и оказывается уже мостом к любви… Он даже желает своего врага как некий собственный знак отличия; он не выносит иного врага, кроме того, в ком нечего презирать, но очень многое достойно уважения! Представьте же теперь себе «врага», каким представляет его человек ressentiment, – и это именно его деяние, его творение: он представляет «злого врага», и зло становится основной концепцией, из которой он потом и выдумывает некий антипод – «доброго» себя!
И это составляет полный контраст с тем, что делает человек благородный, который заранее и спонтанно, из самого себя создает основное понятие «хороший» и лишь затем строит для себя представление о «плохом»! Это «плохое» благородного происхождения, и то «злое», что родилось в котле неудовлетворенной ненависти, – первое – это отголосок, побочный эффект, контрастный оттенок, второе же, напротив, оригинал, начало, особый поступок в концепции рабской морали – как различны эти слова – «плохой» и «злой», хотя оба являются противопоставлением одной и той же концепции «хороший»! Но концепция «хороший» не одинакова: человек должен спросить себя, а кто именно «злой» в смысле морали ressentiment. Если ответить со всей строгостью, то как раз «хороший человек» другой морали, как раз благородный, сильный человек.
Что ягнята не любят крупных хищных птиц, не кажется странным; но это не дает оснований осуждать этих птиц за то, что они хватают маленьких ягнят. И если ягнята говорят между собой: «Эти хищные птицы злы; а тот, кто меньше всего похож на хищную птицу, а, напротив, является ее противоположностью, ягненком, – разве он не добр?» – то в таком определении идеала невозможно найти промах. Разве что сами хищные птицы могут взглянуть на это с иронией и сказать: «Мы вовсе не ненавидим их, этих добрых маленьких ягнят, мы даже их любим: ничего нет вкуснее нежного ягненка».
Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как сила, чтобы она не была желанием победы, желанием ниспровержения, желанием господства, жаждою врагов, сопротивлений и триумфов, так же абсурдно, как требовать от слабости, чтобы она проявляла себя как сила. Квант силы является таким же квантом порыва, воли, действия – более того, он есть не что иное, как сам этот порыв, желание, действие, и лишь вследствие языкового соблазна (и окаменевших в нем фундаментальных ошибок разума), которое по недоразумению понимает все действия как нечто обусловленное тем, что порождает эти действия, «субъектом», может это представляться иначе. Так же, как общественный разум отделяет молнию от ее блеска и принимает последнее за действие некоего субъекта, именуемого молнией, так же и народная мораль отделяет силу от проявлений силы, как если бы за сильным человеком стоял некий нейтральный субстрат, который был бы волен проявлять силу либо не проявлять ее. Но такого субстрата нет; не существует «бытия», скрытого за действием, поступком, становлением; «деятель» – это просто вымысел, добавленный к действию, – действие есть все. В действительности, народный разум удваивает действие; когда человек видит вспышку молнии, то воспринимает ее как действие действия; одно и то же событие сначала является причиной, а во второй раз следствием. Ученые поступают не лучше, когда говорят: «сила двигает», «сила вызывает» и тому подобное, – вся наша наука, несмотря на ее холодность и свободу от эмоций, все же находится под обманчивым влиянием языка и не избавилась от маленького подкидыша, «субъекта» (таким подкидышем является, например, атом, равно как и кантовская «вещь в себе»); неудивительно, что подавляемые, мрачно хмурящиеся эмоции мстительности и ненависти используют эту веру в собственных интересах и не поддерживают более страстно ни одной другой веры, кроме веры в то, что сильный человек свободен быть слабым, а хищная птица – ягненком; ведь тем самым они получают право винить хищную птицу за то, что она хищная.
Угнетенные, втоптанные в пыль, подвергшиеся насилию уговаривают себя с мстительной хитростью бессилия: «Будем не такими, как злые! Будем добрыми! А добр тот, кто не совершает насилия, кто не причиняет никому вреда, кто не нападает, кто не мстит, кто оставляет месть Богу, кто, подобно нам, держится в тени, кто избегает зла и немногого желает от жизни, как мы, терпеливые, смиренные, справедливые»…»
«К генеалогии морали. Полемическое сочинение», 1887
Ницше представляет нечто вроде подземной фабрики, на которой реальная слабость превращается в ложную мораль, любое проявление «безвластности» (ягненок не способен отомстить орлу) представляется высокоморальным действием.
Ницше пишет о том, как в моменты слабости мы прячемся от того, что происходит в действительности. Вместо того чтобы набираться сил для конкуренции, мы упрекаем других – а затем восхваляем себя за то, что не похожи на этих ужасных людей.
«Слабость лжет и представляет себя заслугой, это бесспорно… А бессилие, которое не мстит, мнит себя «добросердечием»; трусливая низость – «смирением»; подчинение ненавистным – «покорностью» (главным образом, тому, кто, по их мнению, требует такого подчинения, – его они называют Богом). Безобидность слабого человека, трусость, которой у него предостаточно, его попрошайничество у двери, его неизбежная обреченность на ожидание получает здесь лестное название – «терпение», оно даже считается добродетелью; неспособность к мести называется нежеланием мстить, возможно, даже прощением…»
«К генеалогии морали. Полемическое сочинение», 1887
В мире много высокомерных людей. Но не меньше и достойных, которые не достаточно высокомерны. Не жалуйтесь, что правительство состоит из одних идиотов, не твердите, что банкиры – воры. Совершенствуйтесь, конкурируйте – и делайте мир лучше.
Всегда есть те, с кем мы не согласны, кто нам не нравится, кто раздражает и злит. И очень хочется просто игнорировать их – к чему попусту тратить внимание? А еще соблазнительнее прибегнуть к карикатуре: этих людей можно представить в смешном или дурацком виде, а их действия назвать идиотскими. Ницше, который, как никто, умел заводить врагов, избирает другой путь. Он очень серьезно спрашивает себя: что идет не так? Что именно раздражает меня в этом человеке? Другими словами, его цель – понимание. Когда вы испытываете сильные чувства – негативные, как в этом примере, или позитивные, – автоматически понять, что они значат, невозможно. Вы учитесь на опыте, не только переживая его, но и анализируя.