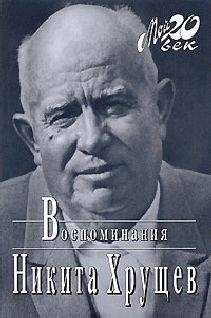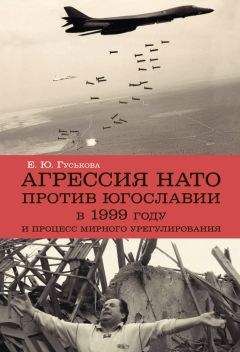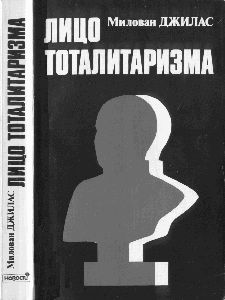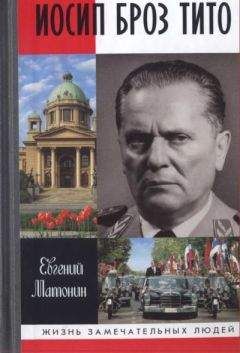Сталин говорил, что он обратился к Эйзенхауэру и указал, что это было бы несправедливо. Немцы тогда фактически уже прекратили активную войну против американских и английских войск. Эйзенхауэр придержал наступление своих войск, рассказывал нам Сталин, я это отлично помню. Ответил, что следует дать моральное удовлетворение русским. Русские понесли главные потери в борьбе с немцами, и они по праву должны со своими войсками войти в Берлин. Сталин приписывал нашу боевую заслугу рыцарскому благородству Эйзенхауэра, и я согласен в этой оценке со Сталиным. Другой факт. Когда наши войска разбили немцев, сломили их сопротивление в направлении Вены, и немцы увидели, что они уже не могут сопротивляться, то они не сдались советским войскам, а, повернув на Запад, хотели сдаться американцам. Сталин опять обратился к Эйзенхауэру, указав, что мы их разбили, а оружие они складывают перед другими. Эйзенхауэр приказал своим войскам не брать разбитые дивизии в плен и предложить командующему немецкими войсками на этом направлении сдаться русским, сложить оружие перед нашими войсками.
И еще один факт. В результате того, что немцы не оказывали должного сопротивления на Западном направлении, войска союзников зашли за линии дислокации войск, определенные на Ялтинской конференции. Я помню (при мне это было), как Сталин проявлял тревогу: отведут ли американцы и англичане свои войска на те линии, которые определили в Ялте, или же потребуют признания статус кво, установления демаркационной линии по месту фактического расположения войск. Когда немцы капитулировали, американцы вернулись на линию, определенную Ялтинской конференцией. Когда американцы так поступили, то и англичане последовали за ними. Все это располагало тогда и сейчас располагает меня к Эйзенхауэру. Независимо от обострения в наших отношениях, которые произошло позднее. Мы питали некоторые надежды, что, став президентом, он сохранил прежнее мироощущение и что с ним можно, как говориться, пиво варить; можно договориться на разумной основе. То есть так, чтобы интересы США, конечно, не классовые, а государственные интересы, не затрагивались, но одновременно учитывались и интересы Советского Союза и ряда других стран. Такое доброе соглашение обеспечивало бы мир и невмешательство во внутренние дела. Но когда я увидел, что Эйзенхауэр читает то, что ему подсовывает Даллес, у меня сразу все надежды поблекли.
Мы помнили другого Эйзенхауэра - выдающегося полководца, а сейчас столкнулись с заурядным политиком. Он в международных вопросах не занимал самостоятельной позиции, а целиком положился на Даллеса. А Даллеса мы считали человеком, лишенным здравого рассудка, опьяненным, парализованным злобой. Он не хотел реально взглянуть в будущее, где вырисовывалось иное соотношение сил и которое со временем должно стать еще рельефнее. Он не мог верно оценить происходящее, предвидеть развитие событий с правильных позиций. Даллес, Эйзенхауэр и другие наши партнеры по переговорам стояли на буржуазных позициях. Тем не менее, не лишенные разума политики со своих классовых, буржуазных позиций тоже здраво взвешивали факты и понимали, что соотношение сил изменилось и продолжает изменяться в ущерб капиталистическому миру. Наращиваются силы стран социализма, увеличивается мощь пролетарского, коммунистического движения. Вот тут и надо искать основу политики Даллеса. Даллес хотел приложить все усилия, чтобы приостановить наращивание сил социализма, приостановить прогрессивное движение, происходившее и происходящее сейчас в мире. Однако Даллес, при всей своей слепой ненависти к коммунизму, к прогрессивным силам, когда дело доходило до возможности развязывания войны, оставался трезвым политиком. Он придумал понятие "на грани войны" и на этой грани строил свою политику. Однако он знал, что если он переступит эту грань, то крепко получит по зубам.
И сколько бы Даллес ни кричал о войне, о сдерживании коммунизма, мы знали, что он не переступит эту свою грань, не ввергнет опрометчиво мир в новую войну. В этом проявилась его трезвость как политика. В некотором смысле с ним было проще вести дело, чем с политиками, обладающими горячей головой, о которых трудно сказать, что они сделают под влиянием сиюминутных настроений. Но найти соглашение, о чем-то договориться с Даллесом было невозможно. Его просто выворачивало наизнанку при одной мысли о возможности установления дружеских отношений с Советским Союзом. Вот так сразу в моих глазах поблекли краски, которыми я рисовал себе образ Эйзенхауэра. Жуков встречался с Эйзенхауэром на правах старого знакомого. Я наблюдал первую встречу Жукова с Эйзенхауэром. Она была очень теплой, можно сказать - дружеской. Я чувствовал, что Эйзенхауэр с большим уважением здоровался с Жуковым. Затем Жуков один ходил к Эйзенхауэру и целый вечер просидел с ним, вел беседу. Жуков нам потом рассказывал о ней. Беседа, конечно, не могла выйти за рамки переговоров, ни дальше, ни ближе. Но, я думаю, что они не особенно и придерживались этого вопроса. Больше всего они вспоминали о прошедшей войне, о своей роли в ней, о всяких военных эпизодах. Было о чем поговорить Жукову и Эйзенхауэру. Когда Жуков вернулся, он только сказал: "Вот, президент подарил мне спиннинг".
Эйзенхауэр передал еще какие-то подарки для дочери Жукова (она как раз выходила замуж) и какие-то сувениры для жены Жукова. Вот, собственно, и все. Мы-то думали, что Жуков чего-то сможет добиться, убедив делегацию США занять более благоприятную позицию в смысле смягчения военной напряженности и создания условий для мирного сосуществования. Но все ограничилось воспоминаниями. Даже при этом результате считаю, что мы не зря взяли Жукова, включили его в состав лиц, сопровождавших председателя Совета Министров СССР на женевских переговорах. Делегация США имела, конечно, все основания для лидерства, потому что США - ведущая среди капиталистических стран держава. Ни Франция, ни Англия не могли определять западную политику. Но на пути к смягчению напряженности находился Даллес. Он, как цепной пес, восседал возле Эйзенхауэра, направляя его действия. Это был ярый антикоммунист, агрессивный человек, который не мог согласиться на мирное сосуществование с Советским Союзом. Поэтому ни беседы, которые мы вели во время обеда в честь Эйзенхауэра, ни встречи и беседы один на один Жукова с Эйзенхауэром никаких результатов не дали. Не было ничего, кроме любезностей. Никаких политических переговоров он сам лично не захотел вести. Во время перерывов между заседаниями, когда выдавалось свободное время, наша делегация ездила на открытой машине, осматривая город. Мы раскатывали по набережной Женевского озера и в пригороды Женевы.
Нам удивлялись, что мы столь вольно себя ведем, не опасаясь, что могут иметь место какие-то террористические нападения. Проявлений какой-либо враждебности со стороны зевак, которых было не так и много, я не замечал. Народ с любопытством смотрел, что это, мол, за люди: оказывается, они внешне выглядят, как все другие. Замечалось любопытство, но не враждебность. Хотя и выражений какой-либо особой симпатии в отношении нашей делегации тоже не было. Видимо, публика Женевы привыкла ко всевозможным иностранным делегациям и довольно спокойно относилась к тому, что приехала очередная делегация, проходят очередные международные встречи. Поэтому и наше пребывание там не вызвало ажиотажа. Да, собственно говоря, мы ничего такого и не ожидали. Когда мы собрались на первую встречу, Эйзенхауэр предложил: "Давайте установим такой порядок, что после каждого заседания будем приходить в буфет и здесь выпивать по рюмочке мартини, чтобы смыть осадок от наших споров". Так мы и делали. Как только кончалось заседание, все шли к буфету и наливали себе по маленькой рюмочке. Конечно, при этом шутили, а затем расходились. Эйзенхауэра обычно сопровождали Даллес и Рокфеллер.
Помню, он представил нам последнего: "Вот, господин Хрущев, Рокфеллер". Внешность этого банкира на меня тогда не произвела особого впечатления. Одевался он демократично и не был похож на тот образ миллионера, который я себе раньше создал. Посмотрел я и говорю: "Так это и есть тот самый господин Рокфеллер?". Подошел к нему и взял его кулаками под бока. Он принял шутку и ответил тем же со своей стороны. После этого отношения между нами сложились непринужденные. Более интересные, чем с другими, беседы за обедом проходили с делегацией Великобритании, лично с Иденом. Иден оказался внешне красивым мужчиной. Высокого роста, с усиками. Он несколько смахивал, пожалуй, на грузина. Приятный был человек. Его сопровождал министр иностранных дел Селвин Ллойд. Беседы с ними велись не на дружеском основе, но все же в теплой атмосфере. Иден - человек очень симпатичный, располагающий к себе. Политик он был опытный, сам лично направлял линию своего правительства и консервативной партии, не то что Эйзенхауэр. На наших встречах Идеи демонстрировал британский лоск и вежливость, во всем проявлялись его деликатность и демократичность.