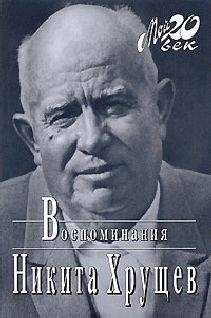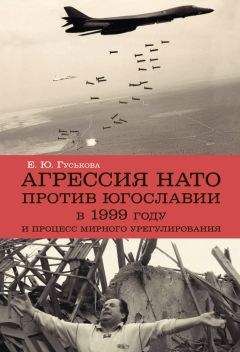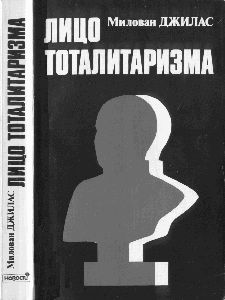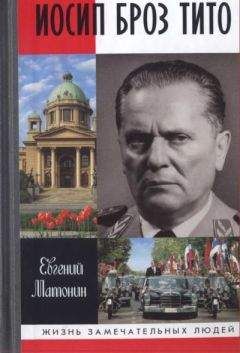После встреч с Эйзенхауэром и с Иденом я не отметил бы, что эти люди имели пристрастие к спиртным напиткам. Пили в меру. Больше шутили, разговаривали. Особенно хорошие отношения у нас сложились с французской делегацией. Эдгар Фор - человек очень обтекаемый, если так можно выразиться, умеющий расположить к себе. С ним приятно было беседовать. Во время беседы мы не раз шутили. Я, помню, стал называть его Эдгаром Ивановичем. Он понимал шутки и сам отвечал на них. Однако французская делегация не занимала тогда ведущего положения, я бы сказал даже - должного положения, которое Франция должна была в принципе занимать. Во Франции очень часто менялись правительства, поэтому ее политика была неустойчивой. Из-за этого тогда не устанавливалось серьезного отношения к позиции Франции. Если бы правительство Фора укрепилось, то могли бы появиться надежды на улучшение наших отношений и на развитие торговли. Большего вряд ли можно было ожидать в ту пору.
Итак, совещание продолжалось, но вопросы, по сути, не решались. Нам противостояли три делегации, которые занимали единую позицию, противоположную нашей. Положение отнюдь не менялось от того, что Идеи лишь более мягко формулировал ту же политическую линию, которую проводили США и Франция. За обедом Идеи нас спросил: "Как бы вы отнеслись, если мы пригласим вас официально прибыть с визитом в Великобританию? Это было бы полезно для обоих наших государств". Мы ответили, что это будет, конечно, полезно и мы охотно примем такое предложение, если оно поступит. Может быть, мы ответили не, в таких категоричных выражениях, как я это сейчас говорю, но все же почти договорились о том, что Лондон пришлет приглашение и что это приглашение о посещении нашей делегацией Великобритании будет принято. А все остальные беседы были похожи одна на другую, тянулся обед за обедом. То были беседы, которые просто занимали время, но по существу не разрешали вопросов, для решения которых мы там собрались. Когда я потом встретился с господином Неру[41] (по-моему, это было в 1960 г. в США, когда я возглавлял советскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН), он, как всегда улыбаясь, с этаким мягким выражением лица, располагающим к себе, спросил: "Господин Хрущев, меня интересует, как вы беседовали с Даллесом".
Я-то понимал, что его интересовало. Он знал нашу бескомпромиссную позицию в отношении политики, которую проводил Даллес, и знал также Даллесовскую политику, абсолютно бескомпромиссную в отношении советского государства. Отвечаю: "Да, мы встречались с ним во время обеда у Эйзенхауэра. Там мы встречались в неофициальной обстановке, причем Эйзенхауэр посадил нас рядом". "Ну, и что же?". "Разговаривали о том, какое блюдо кому нравится, сравнивая те, которые мы только что откушали. Вот, собственно, и весь предмет разговора. Не более того". Даллес - человек, сухой по характеру. В разговорах за обедом он проявлял большую сдержанность и не был словоохотлив, как французы или даже англичане. В этом смысле Эдгар Фор проявлял гораздо большее гостеприимство и любезность. Когда мы беседовали с ним за обедом, он усиленно приглашал нас вечерком съездить из Женевы во Францию в какое-то место, которое славилось особенно хорошим вином. Он хотел угостить нас этим вином. Мы отвечали, что согласны с его приглашением, благодарны ему и готовы поехать.
Конечно, всерьез мы и не собирались ехать. Думаю, что Фор тоже полагал, что мы не поедем. Это было просто проявлением вежливости. Он хорошо знал, что мы не поставим его в условия, когда он должен будет нас принимать там, где это не предусмотрено протоколом. Когда мы стали готовить итоговый документ, выявилась непримиримость наших позиций. Наша позиция базировалась (и сейчас она сохраняется таковой) на признании реально сложившихся после войны границ. Из этого следовало, что из Германии выделилось два государства: Западная Германия и Германская Демократическая Республика. И это требовалось признать. Мы считали также необходимым запретить ядерное оружие. Вот вопросы вопросов. Их решение способствовало бы смягчению напряжения и укреплению доверия. Вот чего мы добивались. Запад говорил, что они тоже стоят за мирное сосуществование, но без признания двух Германий. Существующее положение они расценивали как остатки войны. Они нас обвиняли в том, что мы не хотим воссоединения Германии в единое государство, и продолжали настаивать на своих оккупационных правах до заключения мирного договора с Германией. А мирный договор они не могли заключить из-за наличия двух Германий.
Они признавали одну Германию - Западную и ее правительство, возглавляемое Аденауэром. Так мы этот мяч и перебрасывали по полю, вернее, по нашему столу, разделявшему делегации, собравшиеся в Женеве. Насчет Германии мы искали какой-то компромисс, чтобы можно было принять общий текст от имени четырех держав. Формулировки там содержались такие, которые давали возможность толковать его каждой делегации по-своему. Беседовали четыре делегации, но сторон-то было две: Советский Союз и страны капиталистического мира. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, мы подготовили наше заявление и сейчас же после подписания совместного документа устроили пресс-конференцию, на которой зачитали это особое заявление: как мы понимаем принятую в Женеве декларацию. В результате остались на старых позициях и та, и другая сторона. Я думаю, что в конце концов наши противники будут вынуждены признать Германскую Демократическую Республику и установить с ней дипломатические отношения. Это будет способствовать нормализации отношений между народами, между государствами. Но требуются усилия и, я повторяю, терпение. Конечно, одного терпения недостаточно. Надо изыскивать возможности для переговоров, проявлять упорство в достижении договоренности, нормализации отношений.
Сейчас ГДР получила все условия, необходимые для развития независимого государства. Она имеет государственность, армию, свои границы. Она их контролирует и защищает. Она имеет сильных друзей в лице социалистических стран. Поэтому капиталистическим державам решить проблему с позиции силы не удастся. Так вопрос сейчас уже не стоит. Это понимают противники коммунизма и вынуждены считаться с реальностью. Я не помню, кто (Эйзенхауэр или Идеи) спросил у меня: знаком ли я с Аденауэром? Я сказал, что лично незнаком, но по печати довольно хорошо его знаю, хорошо знаком с его позицией и политикой, которую он проводит. Она ничего хорошего нам не сулит. Мой собеседник посмотрел на меня, сделал такое "доброе лицо" и сказал: "Вы знаете, было бы полезно вам с ним встретиться. Он совсем не такой человек, каким, я вижу, вы его себе представляете. Он добрый старик. С ним можно разговаривать". Я ответил: "Что касается добрых стариков, то здесь вопрос индивидуального подхода в оценке их доброты. Наша позиция противоположна той, о которой вы говорите, - "с добрым лицом и с добрыми намерениями".
Беседа перешла уже за обеденный стол, и я не так остро ставил вопрос. Я знал, что нас пока разделяет пропасть. Мы - люди из разных лагерей, поэтому для них он добрый, а для нас он злой. Однако я отвлекся. Не хочу сейчас говорить, как конкретно формулировались вопросы, обсуждавшиеся на встрече в Женеве. Я рассказываю только по памяти, не пользуясь специальной литературой. К тому же сейчас это уже пройденный этап политической борьбы. Я хотел рассказать здесь лишь о характере, о духе нашей встречи, которая была все-таки полезной. Капиталистические страны прощупывали нас и, видимо, определили, что с нами вряд ли имеет смысл разговаривать по принципиальным вопросам с позиции силы. Не знаю, тогда ли они окончательно уверились в этом. Но, во всяком случае, они почувствовали, что мы не поддадимся. Мы продемонстрировали миру, что стремимся к мирному сосуществованию, однако без таких уступок, которые свидетельствовали бы, что нас можно вытеснить с наших позиций путем запугивания. Мы же тоже почувствовали, что, хотя честно и искренне высказали свое стремление к мирному сосуществованию, заявив, что не преследуем никаких завоевательных целей, в чем обвиняла нас печать капиталистического мира, все равно мы не сумеем убедить западные страны пойти на улучшение наших отношений. Мы тогда считали, что на первых порах хорошо было бы договориться о расширении торговых отношений. Особенно хотели мы торговать с США.
К тому времени они приняли закон, ограничивающий торговлю с Советским Союзом. Хотели мы расширить торговлю также с Францией и Англией. Однако, как я уже говорил, вопросом вопросов оставалась проблема Германии. Здесь, как мы считали, возникали точки соприкосновения, от которых зависело, поднимется ли политическая температура до критического градуса или же удержится нормальной: не холодной и не горячей, а теплой, которая взаимно бы согревала нас и создавала благоприятные условия для мирного сосуществования двух систем, капиталистической и социалистической. Мы добивались мирного сосуществования на государственной основе. Вопросы идеологии и философии мы тут всегда выделяли и открыто заявляли, что мирное сосуществование социалистической и капиталистической идеологий невозможно, что они несовместимы, пока каждая сторона остается на своих принципиальных позициях, с которых нельзя сходить. Тут надо вести борьбу до конца, и каждому здравомыслящему человеку ясно, что идеологические вопросы могут решаться только в борьбе и будут решены лишь в результате чьей-то победы. Если мы являемся коммунистами, марксистами, ленинцами, то верили и верим, что победа останется за новым, прогрессивным строем, за марксизмомленинизмом. А раз так, то какой же может быть разговор о мирном сосуществовании с капиталистической идеологией?