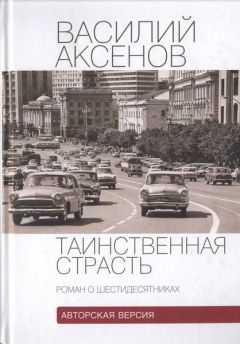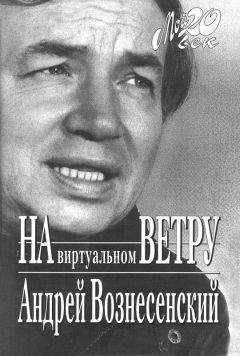Понять его оригинальность можно, только поняв существо суть его поиска, глубину его внутреннего состояния. Именно это внутреннее состояние повествователя диктует здесь и стилистику, и сюжеты, и пафос.
Максимовская проза субъективна. Но это не та субъективность, к которой нас приучила так называемая «лирическая проза». Максимов — не мечтатель, созерцающий горизонты, а уж скорее неистовый режиссер, заставляющий актеров сшибаться насмерть. Или — неистовый следователь, который устраивает очные ставки. Он одержим жаждой дойти до сути, до смысла человеческой судьбы. Его проза — это, конечно, философская проза, вот что держит ее, вот что искупает в ней и тяжелую словесную ткань, и тяжелую символику подробностей, и тяжелую драматическую непоправимость сюжетов. Максимов-прозаик прямо связан в моральных исканиях с проблематикой современного человека, он отвечает не столько «жажде чтения», сколько «жажде понимания».
В его повестях — философское «гравитационное поле», люди здесь действуют как бы в духовно символической сфере. Здесь нет пластики описаний, нет музыки слова, нет того ощущения, будто перед вами — сама действительность. Нет, это проза громоздкая, субъективная, проседающая под тяжестью слов. Чувствуется учеба у молодого Горького. «Гривастые волны с грохотом били в берег и, насытясь до черноты его суглинистой крошкой, отступали назад, чтобы уже через минуту вновь кинуться на приступ медленно отступающей тверди…»
У Максимова немыслима та лукаво-артистическая ирония, которая у многих современных писателей (от В. Шукшина до И. Друцэ и от В. Аксенова до В. Белова) часто смягчает текст. Нет, у него все серьезно, впрямую серьезно, безоглядно серьезно.
Десятилетие назад В. Максимов начал свою первую повесть с горьковской фразы, которую можно ставить эпиграфом ко всей его прозе: «Знаю ли я людей?»
Этот вопрос не мог бы прийти в голову, скажем, городскому рефлексирующему герою Андрея Битова, — тот занимался другой темой: знаю ли я себя?
Этот вопрос чужд и современным знатокам деревенской души, скажем, Василию Белову, который настолько изначально слит с людьми и не умеет отделить себя от них, что вряд ли он понимает, как это можно подойти к ним вот так, извне.
Максимовский герой — на вечном распутье. И для него поиски своего места становятся вопросом жизни всех. Знать людей, найти с ними связь, понять смысл своего пути к ним — здесь это проблема почти всепоглощающая.
Максимов исследует человеческое самосознание на изломе. Он всматривается в линию излома. Его герой — странник, обломок, человек, отломившийся, ушедший от людей. Если с точки зрения внешней тематики Максимов — писатель «перековывающегося» уголовного мира, то с точки зрения этики — он исследователь резко отчеркнутого личного, индивидуального, заброшенного в пустоту сознания, которое пробует жить в зверином одиночестве, но начинает гибнуть без людей, и тогда открывает в себе нравственное начало. Это типичная драма отдельности, отделенности, и — по традиционной схеме — это никакая не «лирика», и не «эпос», а явная «драма».
Максимов драматичен, драматургичен, почти театрален. Повесть «Стань за черту» есть не что иное, как разыгрывание нравственной драмы перед зрителем, спрятанным за занавеской, драмы, где есть и режиссер и актеры — те самые дети, что решают: прощать или не прощать преступника-отца и которых мать по очереди приводит в дом, чтобы отец из-за занавески мог услышать их решение. Даже и занавес есть, хоть он и не поднимается.
Вы каждую секунду ощущаете театральность мизансцены и вместе с тем чувствуете неподдельность текста. Парадокс! Но то, что у другого писателя показалось бы выспренним лицедейством, у Максимова сохраняет вкус правды. Разгадка здесь одна: его проза настолько прикована к своей проблематике, что не слишком заботится о внешнем обыденном правдоподобии. Все остальное вполне можно воспринять как «лирический беспорядок» описаний, если упустить то главное, чем спаяны воедино странно распавшиеся, перемешанные, причудливо соединенные элементы, — если упустить нравственный опыт личности.
Что соединяет воедино элементы, если в стиле нет той обволакивающей связующей силы, которая сопрягает концы уже хотя бы одной интонацией. Нет и той всеохватывающей любви к мирозданию, которая в современной лирической прозе создает ощущение своеобразного панпсихизма: каждая травинка — сестрица…
Максимов отдает этому поветрию чисто внешнюю дань: «Видела до того, к примеру, дерево, думала — дерево и есть, только оно вдруг для меня листиком всяким, былинкой затрепетало. И у речки — всякая струя в отдельности». Но этот мотив (из наиболее противоречивой повести «Стань за черту») для Максимова не характерен. Душа предметов — не его принцип, и мир в его представлении — отнюдь не взаимосвязанная гармония, а острая сшибка, почти слепая, почти случайная сшибка обстоятельств.
Тоскуя о солидарности, отыскивая свой путь к людям, максимовский герой мучительно размышляет; ему нужен ответ, истина, «философский камень», он живет в атмосфере жесткого выбора, жесткой мысли и жесткой истины. Путь к людям лежит через осмысление их жизни. Отсюда — страсть максимовских героев к разговорам, в которых вся суть…
Его герои, сходясь на случайных перепутьях, тоскливо смотрят в глаза друг другу: «Эх, не вышло разговора!» Жажда разговора, того самого «русского спора», где все — до дна, — вот их главная жажда. И все люди, все события, все малые детали максимовской прозы настроены на эту волну смысла, все ловят единую связь вещей и событий, ищут миру всеобщий понятийный контур.
В повести «Дорога» Иван Васильевич Грибанов размышляет: «Ведь ничто не исчезает бесследно, не может исчезнуть! Даже самая бессмысленная работа составляет другую, не осязаемую наощупь, но человечески определенную ценность — опыт».
Ничто не исчезает! Все должно иметь смысл! Ни добро, ни зло не прячет концов. Всему воздается — вот тот нравственный фермент, который сплачивает воедино элементы максимовской прозы. Мы еще увидим и сильные и слабые стороны этой этики воздаяния. Но пока отметим ее неотвратимость для Максимова: у него ничто не сбрасывается со счета, ничто! «Зряшный труд» в повести «Дорога» страшен именно зряшностью: не только тем, что брошены на ветер миллионы, а прежде всего тем, что «зряшность» убивает в человеке творца — остается холодный исполнитель. Главное: ведь зло все равно где-то выплывет! Как в повести «Стань за черту» выплывет наверх, на поверхность тайная злоба Михея Коноплева, убийцы, который приполз просить прощенья у своих детей, — и надо бы простить, да ничто не забывается, и потому остается Михей «за чертой».
Ничто не забывается: ни зло, ни добро! Ни коварство того рыжего парня, которого убивает максимовский Сашка, ни самоотверженность Саввы из «Шагов к горизонту» — когда тот же Сашка, обессилевший посреди тундры, кончает с собой, чтобы не мешать Савве идти дальше. Самоубийство — вообще один из кардинальных нравственных актов в максимовской этике: нравственный суд над собой и расплата — расплата за все до последней копеечки… Человек у Максимова осуществляет себя в условиях беспощадно действующего нравственного закона, при котором и воздаяние и возмездие непреложны. В мире эмпирических фактов у Максимова господствует случай: фарт и фортуна. В мире этических ценностей царит жесточайший закон возмездия.
Есть две крайних ситуации, в которых испытывает человека В. Максимов. Две крайности. Два полюса, где для Максимова искажается человеческое.
Один полюс мы уже назвали: это холодная деловитость, опутывающая человека суета, слепой расчет металла и лошадиных сил, предполагающий индивида в качестве бездушного элемента бесперебойно работающей системы. Максимов люто ненавидит рациональную прагматику, для которой человек — только функция. «Жестокая ясность», глядящая сквозь человека, — предмет мучительных раздумий в повести «Дорога». Закрыть стройку — целесообразно, конечно, но и кощунственно по отношению к человеку, ибо для людей, проложивших дорогу через тундру, дорога стала частью их самих, она обрела для людей нравственный смысл, существующий помимо инженерных расчетов.
Человек не вписывается в систему этих расчетов, не подчиняется математике соотношения сил, выгод и интересов. И человек — вот главный сюжет В. Максимова! — человек, не знающий у него никакой земной тяги, никаких традиции, пытается бежать от людей в одиночество.
Это и есть другой полюс максимовского морального поиска: неограниченная, нерасчетливая, дикая, волчья свобода, которой В. Максимов испытывает человека. Здесь-то — главная проба. Здесь, на пустынном Севере, где мы обживаем землю — мы, шестеро, из которых в живых суждено остаться одному. Жив человек — но какой ценой: смертная цепочка тянется за Сергеем Царевым, бежавшим из заключения, — спасая его, гибнут другие. До рога, раскрывающаяся перед героями Максимова, — это путь в пустыню, это бегство в пустую свободу, это… шаги к горизонту, за которым неизвестность…